Список разделов » Сектора и Миры
Сектор Орион - Мир Беллатрикс - Сказочный мир
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ Кроме того, 1 октября - Международный день улыбки. Лилиан Муур Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду
Крошка Енот был маленьким, но храбрым. Однажды Мама Енотиха сказала: – Сегодня луна будет полной и светлой. Крошка Енот, можешь ли ты один сходить к быстрому ручью и принести раков на ужин? – Ну да, конечно, – ответил Крошка Енот.– Я наловлю вам таких раков, каких вы никогда ещё не ели. Крошка Енот был маленьким, но храбрым. Ночью взошла луна, большая и светлая. – Пора, Крошка Енот, – сказала мама.– Иди, пока ты не дойдёшь до пруда. Ты увидишь большое дерево, которое перекинуто через пруд. Перейди по нему на другую сторону. Это самое лучшее место для ловли раков. При свете луны Крошка Енот отправился в путь. Он был такой счастливый! Такой гордый! Вот он какой — Пошёл в лес Совсем один, Первый раз в жизни! Сперва он шёл не спеша, Потом чуть быстрее, А дальше – вприпрыжку. Вскоре Крошка Енот вошёл в густой-прегустой лес. Там отдыхал Старый Дикобраз. Он очень удивился, увидев, что Крошка Енот гуляет в лесу без мамы. – Куда ты идёшь совсем один? – спросил Старый Дикобраз. – К быстрому ручью! – ответил Крошка Енот гордо.– Я иду ловить раков на ужин. – А тебе не страшно, Крошка Енот? – спросил Старый Дикобраз.– Ты ведь знаешь, что у тебя нет того, что есть у меня, – таких острых и длинных иголок. – Я не боюсь! – ответил Крошка Енот: он был маленький, но храбрый. Крошка Енот пошёл дальше при свете яркой луны. Сперва он шёл не спеша. Потом чуть быстрее, А дальше – вприпрыжку. Вскоре он пришёл на зелёную полянку. Там сидел Большой Скунс. Он тоже удивился, почему Крошка Енот гуляет в лесу без мамы. – Куда ты идёшь совсем один? – спросил Большой Скунс. – К быстрому ручью! – ответил Крошка Енот гордо.– Я иду ловить раков на ужин. – А тебе не страшно, Крошка Енот? – спросил Большой Скунс.– Ты ведь знаешь, у тебя нет того, что есть у меня: я разбрызгиваю жидкость с противным запахом, и все убегают. – Я не боюсь! – сказал Крошка Енот и пошёл дальше. Недалеко от пруда он увидел Толстого Кролика. Толстый Кролик спал. Он приоткрыл один глаз и вскочил. – Ой, ты меня напугал! – сказал он.– Куда же ты идёшь совсем один, Крошка Енот? – Я иду к быстрому ручью! – сказал Крошка Енот гордо.– Это по ту сторону пруда. – Оо-ооо! – сказал Толстый Кролик.– А ты не боишься Его? – Кого мне бояться? – спросил Крошка Енот. – Того, кто сидит в пруду, – сказал Толстый Кролик.– Я Его боюсь! – Ну, а я не боюсь! – сказал Крошка Енот и пошёл дальше. И вот наконец Крошка Енот увидел большое дерево, которое было перекинуто через пруд. – Здесь мне надо перейти, – сказал сам себе Крошка Енот.– А там, на другой стороне, я буду ловить раков. Крошка Енот начал переходить по дереву на ту сторону пруда. Он был храбрым, но зачем только он повстречал Этого Толстого Кролика! Ему не хотелось думать о Том, кто сидит в пруду, но он ничего не мог с собой поделать. Он остановился и заглянул. Кто-то сидел в пруду! Это был Он! Сидел там и смотрел на Енота при свете луны. Крошка Енот и виду не подал, что испугался. Он скорчил рожу. Тот, в пруду, тоже скорчил рожу. Что это была за рожа! Крошка Енот повернул обратно и побежал со всех ног. Он так быстро промчался мимо Толстого Кролика, что тот опять напугался. И вот он бежал, бежал не останавливаясь, пока не увидел Большого Скунса. – Что такое? Что такое? – спросил Большой Скунс. – Там, в пруду, сидит Кто-то большой-пребольшой! – вскричал Крошка Енот.– Я не могу пройти! – Хочешь, я пойду с тобой и прогоню его? – спросил Большой Скунс. – О, нет, нет! – ответил Крошка Енот торопливо.– Вы не должны этого делать! – Ну хорошо, – сказал Большой Скунс.– Тогда захвати с собой камень. Только чтобы показать Ему, что у тебя есть камень. Крошке Еноту хотелось принести домой раков. Поэтому он взял камень и пошёл обратно к пруду. – Может быть, Он уже ушёл! – сказал Крошка Енот сам себе.– Нет, Он не ушёл! Он сидел в пруду. Крошка Енот и виду не подал, что испугался. Он высоко поднял камень. Тот, кто сидел в пруду, тоже высоко поднял камень. Ой, какой это был большой камень! Крошка Енот был храбрый, но он был маленький. Он побежал со всех ног. Он бежал, бежал не останавливаясь, пока не увидел Старого Дикобраза. – Что такое? Что такое? – спросил Старый Дикобраз. Крошка Енот рассказал ему про Того, кто сидит в пруду. – У него тоже был камень! – сказал Крошка Енот.– Большой-пребольшой камень. – Ну, тогда захвати с собой палку, – сказал Старый Дикобраз, – вернись обратно и покажи ему, что у тебя есть большая палка. Крошке Еноту хотелось принести домой раков. И вот он взял палку и пошёл обратно к пруду. – Может быть, Он успел уйти, – сказал Крошка Енот сам себе. Нет, Он не ушёл! Он по-прежнему сидел в пруду. Крошка Енот не стал ждать. Он поднял вверх свою большую палку и погрозил ею. Но у Того, в пруду, тоже была палка. Большая-пребольшая палка! И он погрозил этой палкой Крошке Еноту. Крошка Енот уронил свою палку и побежал. Он бежал, бежал Мимо Толстого Кролика, Мимо Большого Скунса, Мимо Старого Дикобраза Не останавливаясь, до самого дома. Крошка Енот рассказал своей маме всё про Того, кто сидит в пруду. – О мама, – сказал он, – мне так хотелось пойти одному за раками! Мне так хотелось принести их на ужин домой! – И ты принесёшь! – сказала Мама Енотиха.– Вот что я тебе скажу, Крошка Енот. Вернись назад, но на этот раз… Не строй рож, Не бери с собой камня, Не бери с собой палки! – Что же я должен делать? – спросил Крошка Енот. – Только улыбнуться! – сказала Мама Енотиха.– Пойди и улыбнись Тому, кто сидит в пруду. – И больше ничего? – спросил Крошка Енот.– Ты уверена? – Это всё, – сказала мама.– Я уверена. Крошка Енот был храбрым, и мама была в этом уверена. И он пошёл обратно к пруду. – Может быть, Он ушёл наконец! – сказал Крошка Енот сам себе. Нет, не ушёл! Он по-прежнему сидел в пруду. Крошка Енот заставил себя остановиться. Потом заставил себя заглянуть в воду. Потом заставил себя улыбнуться Тому, кто сидел в пруду. И Тот, кто сидел в пруду, улыбнулся в ответ! Крошка Енот так обрадовался, что стал хохотать. И ему показалось, что Тот, кто сидел в пруду, хохочет, точь-в-точь как это делают еноты, когда им весело. – Он хочет со мной дружить! – сказал сам себе Крошка Енот.– И теперь я могу перейти на ту сторону. И он побежал по дереву. Там, на берегу быстрого ручья, Крошка Енот принялся ловить раков. Скоро он набрал столько раков, сколько мог донести. Он побежал обратно по дереву через пруд. На этот раз Крошка Енот помахал рукой Тому, кто сидел в пруду. А Тот махнул ему рукой в ответ. Крошка Енот мчался домой со всех ног, крепко держа своих раков. Да! Никогда ещё ни он, ни его мама не едали таких вкусных раков. Так сказала Мама Енотиха. – Я теперь могу идти туда совсем один, когда хочешь! – сказал Крошка Енот.– Я больше не боюсь Того, кто сидит в пруду. – Я знаю, – сказала Мама Енотиха. – Он совсем не плохой, Тот, кто сидит в пруду! – сказал Крошка Енот. – Я знаю, – сказала Мама Енотиха. Крошка Енот посмотрел на маму. – Скажи мне, – сказал он.– Кто это сидит в пруду? Мама Енотиха рассмеялась. А потом сказала ему. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ А ещё 1 октября - Международный день музыки Менестрель и принцесса Автор под ником maskaev (сказка взята с сайта )
Диме и Алене в День свадьбы.
Последние аккорды песни еще дрожали в теплом вечернем воздухе заворожив стоящих тесным кружком слушателей, а Менестрель уже опустил лютню. Он не спешил кланяться публике по опыту зная, что еще несколько долгих мгновений она будет жить в волшебном и таинственном мире сотворенном его песнями. И, честно говоря, он и пел-то всегда именно ради этих чудесных мгновений отделявших последние касание струн от звона первых монет падающих в его шляпу. Этот звон с треском разрывал на мелкие кусочки все то, что он так бережно возводил часами. И как птицы, испуганные дружными одобрительными возгласами и летящими со всех сторон деньгами, кусочки этого фантастического мира суетливо кидались в разные стороны повсеместно попадаясь в искусно расставленные публикой силки. А потом, аккуратно извлеченные из ловушек, они еще долгие годы бережно хранились в душах тех, для кого он пел. И ради этого, черт побери, стоило жить! Отрезвляюще звякнула первая монета. "Ну вот и все на сегодня, - подумал кланяясь Менестрель, - третье представление за день, будет." Он с достоинством раскланивался глядя на улыбающиеся лица, сияющие благодарностью глаза, но мысли были уже совсем о другом. "Ну что ж, сегодня я совсем даже неплохо заработал. Экая куча денег! Хм, правда это смотря для кого ... Кому куча, а кому и ... Да, никак не привыкну к тому, что теперь я уже не один. - И он украдкой взглянул на свой фургон. - Господи, каково же ей трястись в эдакой развалюхе?" Фургон его и вправду, что называется, видал виды, но до недавнего времени вполне устраивал Менестреля. Но сегодняшний день, первый день его женатой кочевой жизни заставил Менестреля на многое взглянуть совершенно иначе. Все что раньше казалось таким привычным и простым, то, о чем собственно можно было даже и не задумываться (раньше) приобретало теперь первостепенное значение. Сейчас это уже были серьезные проблемы, которые никак не шли у него из головы: что купить на завтрак, что купить на обед, не говоря уж об ужине; когда это все успеть приготовить, как и на что обновить фургон, и еще добрая сотня самых разных вопросов маячила перед Менестрелем и не давала ему покоя. "Да, будь у меня жена селянка, то все было бы проще, - улыбнулся он про себя, - но Судьба распорядилась иначе. Она подарила мне ту, о благосклонности которой грезили сотни самых достойных женихов по всей Глюкарии. А эта проказница выбрала меня. И я счастлив! Только вот как же все-таки умудриться создать ей дворец в фургончике? Ведь не может же Принцесса жить как обыкновенная торговка! Хотя, ведь я не единожды предупреждал ее, что я не переодетый принц и вся моя жизнь - дорога." Публика начала понемногу расходиться и Менестрель нагнулся, чтобы собрать выпавшие из шапки монеты. "Ну, предупреждать это одно, а вот наяву познать все "прелести" кочевой жизни, это совсем другое. Я вон тоже вначале думал, что смогу во дворце прижиться, ан нет, не вышло. А ей-то каково? Эта-то задачка куда как посложнее будет - из дворца, да на дорогу! Сдохну, а все сделаю, чтобы она смогла это выдержать!" Менестрель выпрямился с полной шапкой монет и направился к лоткам торговцев снедью. "Сейчас прикуплю вина и хлеба, и домой, к милой. О черт! Какого хлеба, какого вина?! При-ду-рок! И как только она такого идиота себе в мужья выбрала, а? Или все остальные еще хуже были?" Менестрель засмеялся и поспешил к лотошникам. Он купил все самое лучшее, непроизвольно отметив, как полегчала шапка и торопливо зашагал к фургону. "Теперь бы еще все это побыстрее приготовить, а то ведь она уже заждалась меня совсем, проголодалась наверное. Правда, повар из меня не ахти какой, нет, друзья, конечно, хвалили; но то ж в дороге, на привале, а каково ей после дворцовой-то кухни придется? Потом ведь еще всю ночь трястись по дороге. С утра опять представление, а после опять трястись, а потом еще представление и еще ... И видеться мы будем только вечерами, да в дороге... А если ей все это осточертеет через пару недель? - в груди как-то противно похолодало и опустело, - Да ну, нет! - отогнал он эту леденящую черную мысль, - Она не из таких!" Но мысль эта поганая не уходила и, как навязчивая собачонка, все крутилась и путалась под ногами. "Да нет же, нет! - Менестрель уже почти бежал к фургону. - В лепешку расшибусь, а все для нее сделаю!" Но злобное тявканье не стихало: "Что ж она на представление-то не пришла, а? В фургоне осталась, может уже все надоело, а? Досыта твоих песен наелась!" Внутри уже все окончательно замерзло и кое где даже покрылось тоненькой корочкой льда. Менестрель едва не поскользнулся на ступеньках фургона. "Все что угодно, только не это!" Он рывком распахнул дверь и, словно ураган, ворвался внутрь. На него пахнуло теплом и ноздри защекотал сладкий аромат свежеиспеченного теста. Принцесса в простеньком полотняном платьице, с косынкой вместо короны, быстро захлопнула толстый фолиант и смущенно улыбнулась. - А я тут ужин готовлю, - и посмотрев на мужа виновато добавила, - по книжке. Менестрель бросил на стол все принесенные пакеты и кулечки, и подхватив на руки жену закружился с ней по фургону. - Подожди! Да пусти же! - маленькие кулачки изо всех сил заколотили ему в грудь, - Оладьи сгорят! Никогда прежде в своей жизни Менестрель не ел ничего вкуснее этих недожаренных оладий. И никогда прежде он не был так счастлив.
22-23 апреля 1992 г. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 4 октября - Всемирный день животных Обида марала Алтайская сказка
Стал медведь стар. А у лисы только впервые мех засеребрился, хвост пушистый вырос. Вот пошла лиса к волку: — Ах, дядя волк, какое горе, какая беда! Наш медведь-зайсан умирает. Его золотистая шкура поблекла. Острые зубы сгнили. В лапах силы нет. — У-у-у! — завыл волк. — Кто теперь зайсаном будет? — Я думаю, дядя, — проверещала лиса, — кто моложе, кто красивее всех, тот зайсаном должен быть. А сама лапкой шерсть чешет, языком охорашивается. — Ладно! — сказал волк. — Собери всех зверей на совет. Где девять рек соединились, у подножия девяти гор, над быстрым ключом, стоял мохнатый черный кедр. Сюда все звери пришли на совет. Свои шубы показывают, зубы пробуют. Кто красивее всех — не могут решить. — Всяк по-своему хорош! — проурчал старик медведь. — Чего шумите? Я спать хочу. Пошли вон! Звери поднялись, стали коней седлать. Уже хотят по домам ехать, но тут высоко на горе показался марал. Поднятые лапы зверей не успели опуститься, а марал уже под кедром стоит. От быстрого бега не вспотела его гладкая шерсть. Не заходили тонкие ребра. Спокойно сияют большие глаза. Розовым языком коричневую губу чешет. Зубы белеют, смеются. Все звери увидели тонкую морду марала. Уши его — как лепестки цветов. Рога — как бархатные стебли. Медленно встал старый медведь, чихнул, черной лапой глаза от солнца спрятал, разинул пасть, но ничего не успел сказать, потому что лиса выбежала вперед и затявкала: — Хорошо ли живете, благородный марал? Видно, ослабели ваши стройные ноги? Широкая грудь, наверно, больна? К этому кедру белки первыми пришли, кривоногая росомаха давно здесь. Только вы, марал, так опоздали. От стыда марал низко опустил свою ветвистую голову. Потом поднял ее. Мохнатая грудь колыхнулась, и зазвенел его голос, как тростниковая свирель: — Почтенная лиса! Белки на этом кедре живут, росомаха на соседнем дереве спала, а я девять хребтов миновал, девяносто девять рек переплыл. Усмехнулся старый медведь, сгреб мохнатой лапой красную лису и перекинул ее через восемь гор. — Эта лиса, — сказал медведь, — в моем аиле хочет жить, кривоногая росомаха тоже в красавицы лезет. Пожалуйста, благородный марал, займи ты почетное место. Повернул марал голову. Его рога в лучах солнца будто прозрачные стали, словно маслом налились. А лиса уже здесь: — Ох-ха-ха! Марал большой чин получил. Это довольно стыдно. Сейчас-то он красив, а посмотрите на него весной! Голова безрогая, комолая, шея тонкая, шерсть висит клочьями, сам ходит скорчившись, от ветра шатается. Бурый марал слов не нашел. Из черных глаз упали жгучие слезы. Эти слезы прожгли щеки до кости, и кости погнулись. В память той горькой обиды у потомков марала под влажными глазами темнеют две глубокие впадины. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 5 октября - Международный день врача Лекарь Тодераш Румынская сказка
Жил-был, сказывают, бедняк, и было у него три сына. Как старших величали, не помню, а меньшого звали Тоадер или попросту Тодераш. Выросли сыновья, возмужали, стали на охоту ходить, да так пристрастились, что дома их не удержишь, день-деньской по лесам пропадают. Вот однажды случилось им в лесу заночевать. Сошли они с дороги, развели костёр под большим деревом, стали ужинать да совет держать. И порешили, что двое спать лягут, а один станет при дороге дозором. А то не ровен час: пройдёт мимо недобрый человек, на них, на спящих, нападёт, ружья отберёт. Сказано — сделано. Двое младших спать легли, а старший зарядил ружьё и отправился в дозор. Стоит он, стоит и ровно в полночь слышит — колёса стучат. Луна светит ярко, и видно — едет четвёрка вороных, бричку везёт. — Стой, кто там? — кричит старший брат. Только из брички никто ему не отвечает. Во второй раз кричит — опять нет ответа. В третий раз кричит старший брат: — Стой, не то курок спущу! И в ответ слышит: — Погоди, не стреляй. Подъедем — остановимся. Не стал он стрелять. Поравнялась с ним бричка и стала. В ней двое сидят. Один подал парню охотничий рог с такими словами: — Возьми этот рог. Коли придётся тебе худо — потруби в него, и соберётся вокруг тебя рать несметная, земля ходуном заходит. А в другой конец дунешь — и нет никого. Сказал, лошадей стегнул, укатила бричка. А старший брат решил рог испытать: в один конец дунул — откуда ни возьмись, появилась рать несметная. В другой дунул — словно никого и не было. Как стало светать, разбудил он братьев и спрашивает: — Крепко ли, братцы, спали-почивали? — Крепко спали, братец. А ты не видал, не слыхал ли чего? Или тебя тоже сон сморил? — Где это видано, чтобы дозорный уснул? Я глаз не сомкнул, ничего не видал, ничего не слыхал. Разожгли костёр, поджарили зайчатины, перекусили и в путь отправились. Целый день проплутали, думали из лесу выйти. А к вечеру — что за чудеса — оказались на том же месте, откуда утром ушли. Делать нечего, пришлось опять на ночлег устраиваться. Костёр развели, поужинали и решили снова дозор выставить. Настал черёд среднего брата. Он ружьё зарядил, трубку табаком набил, чтобы сон отгонять, и встал при дороге. Луна с неба светит — хоть деньги считай, коли водятся. До полуночи всё было тихо. А ровно в полночь застучали колёса и показалась бричка, запряжённая четвёркой вороных. — Стой, кто там? — кричит средний брат. А ответа не слышит. Во второй раз крикнул — молчат. Кричит он в третий раз: — Стой, курок спущу! — Погоди, не стреляй! — отвечают из брички.— Подъедем — остановимся. Он не стал стрелять. Подъехали двое в бричке, и один протянул парню тугой кошелёк. — Возьми,— говорит.— Кошелёк этот не простой. Из него сколько ни бери, всё не вычерпаешь. Дали кошелёк и были таковы. А средний брат думает — нет ли здесь обману? Вытряхнул горсть золотых — глядит, а кошелёк снова набит доверху. То-то было парню радости. Как стало рассветать, разбудил он братьев, велел завтрак готовить: он-де ночь не спал, от голода живот подвело. — Ты, может, что видал? — спрашивают братья. — Да нет, не привелось. Хоть я всю ночь глаза таращил, заснуть боялся. Самое время поесть и в дорогу пуститься. Может, выберемся нынче из чащобы. Сказано — сделано. Костёр развели, мясо на углях испекли, наелись досыта и пошли напрямик по лесу — просвета искать. Идут они, идут, а вокруг всё глуше, всё темнее. И под вечер снова они на том же зачарованном месте очутились. Снова развели костёр, ужин затеяли. После старшие братья спать улеглись, а младший, Тодераш, пошёл в караул, его черёд наступил. До самой полуночи простоял у дороги, трубкой попыхивал. Ровно в полночь стук раздался. Тодераш ружьё взял наизготовку, глаза навострил, видит: едет бричка, запряжённая четвёркой вороных. — Стой, кто там? — окликает Тодераш. И, не дождавшись ответа, ещё раз голос подаёт. А бричка всё ближе. Взвёл Тодераш курок и кричит в последний раз: — Стой, а не то курок спущу! А ему в ответ: — Погоди, не стреляй. Подъедем — остановимся. Не стал Тодераш стрелять. А бричка и вправду подъехала к нему и остановилась. В бричке — двое сидят. Один подаёт Тодерашу шляпу и говорит: — За то, что ты нас послушался, стрелять не стал, возьми себе эту шляпу. Она не простая: надень её, скажи «Гоп! Гоп!», и она невидимкой тебя сделает и куда хочешь перенесёт, хоть за царский стол. Можешь с царём и с вельможами рядом сесть, пить, есть, и никто тебя не заметит. Сказал — и стегнул лошадей. А Тодераш стоит — глазам не верит. Вот нахлобучил он шляпу на голову и говорит: — Гоп! Гоп! Хочу к царю на угощенье! Глазом моргнуть не успел — а он уже в царской трапезной. Пир идёт горой: приехали к царю сваты, его дочь сватать. Тодераш тоже за стол сел, стал пить, есть да по сторонам глазеть, благо его-то ни одна душа не видела. Царевна парню приглянулась, писаная красавица. Только больно строптивая. Возьми да объяви сватам: за того только она замуж пойдёт, кто с ней в карты играть сядет и не проиграется. Тодераш слушал да на ус мотал. Наелся, напился и молвит: — Гоп! Гоп! Хочу обратно к братьям! И тотчас в лесу очутился. Как рассвело, разбудил Тодераш братьев. — Не видал ли чего ночью? - спрашивают они его. — Нет, всё тихо-спокойно было,— отвечает Тодераш. Пошли братья по лесу, плутали-плутали, наконец в какое-то село вышли. Там старшие братья нашли себе невест, поженились, стали своим домом жить. Один Тодераш в холостяках остался. И решили братья друг другу открыться: показать, что каждый из них от неведомых проезжих в подарок получил. Похвастались, а Тодераш и говорит среднему брату: — У тебя, братец, жена есть, а у меня нет. А царская дочь, я слыхал, за того замуж пойдёт, кто с ней в карты на деньги играть станет и не проиграется. Давай меняться: ты мне кошелёк, я тебе — шляпу. С твоим кошельком разориться мудрено. Женюсь на царевне, вас обоих в генералы произведу. Ударили по рукам. Отдал Тодераш свою шляпу, взял кошелёк и отправился в город к царю. Купил себе в лавке платье, какое богатею подобает, и пошёл царёву дочь сватать. Поглядела царевна на Тодераша и говорит: — Всем ты взял, добрый молодец, как я погляжу, да только дала я зарок замуж пойти за того, кто со мной в карты будет играть и не проиграется. — Идёт,— согласился Тодераш. Сели они играть. Три дня и три ночи не вставали. Выиграла царевна у Тодераша три бочки золотых монет, а у него в кошельке не убавилось. Смотрит царевна на кошелёк — диву даётся. Вот притомились они оба. Царевна и говорит: — Вот что, Тодераш, хватит, наигрались. Приглянулся ты мне, я за тебя и так пойду. Бросили они карты, стали пир пировать. Отведал Тодераш дорогих вин, захмелел с непривычки и уснул мёртвым сном. А царевна вытащила у него волшебный кошелёк и простым подменила. Проснулся Тодераш, а она ему и предлагает: — Сыграем ещё, Тодераш, может, своё золото отыграешь. Сели они играть, Тодераш и проигрался дотла: в простом кошельке много ли поместится? И выставила его царевна вон из дворца. Поплёлся Тодераш к старшему брату, рассказал, что да как, и попросил рог, чтобы царю погрозить — кошелёк воротить. Одолжил ему старший брат волшебный рог. Пришёл Тодераш к царскому дворцу, дунул в рог — откуда ни возьмись, собралась рать несметная, затеяла битву с царёвым войском. Перепугался царь и говорит: — Знаешь что, Тодераш, давай мириться: ты свою рать уведёшь, мою дочь в жёны возьмёшь. Поверил Тодераш царю на слово. Дунул в рог с другого конца, рати как не бывало. Ввели Тодераша во дворец, как гостя дорогого. Сейчас, говорят, попа приведём, венчание устроим. А Тодераш и уши развесил. Сидит, ест, пьёт, попа дожидается. Ну, и выпил больше, чем жениху положено, его сон и повалил. А царь тем временем подменил волшебный рог на простой. Разбудил Тодераша и говорит: — Ишь, зять какой мне выискался. Убирайся восвояси, пока цел. Разозлился Тодераш, схватил рог и ну в него трубить. Да только всё напрасно: рог-то был подменённый. Стал тогда Тодераш царя просить-умолять: не надо, дескать, ему в жёны царской дочери, пусть только вернут ему рог и кошелёк. А его и слушать не стали, выгнали из дворца, да ещё и собак натравили, еле ноги унёс. Идёт Тодераш по дороге, обида его разбирает, идёт он и голову ломает, как бы обидчиков проучить. И приходит к среднему брату. Всё брату рассказал, как было, и выпросил свою шляпу: пойду, говорит, попытаю счастья, может, отобью ваши подарки. Получил шляпу, на голову нахлобучил и произнёс: — Гоп! Гоп! Хочу быть в царских палатах, у царя и у царевны за трапезой. И в мгновение ока очутился за столом у царя. Ест-пьёт невидимкой, а потом как сдёрнет с себя шляпу. Глядят все на Тодераша — это ещё кто такой да откуда? А Тодераш — шляпу на голову и снова невидимкой стал. Посидел рядом с царевной, разных яств поотведал, а потом царевну крепко обнял и говорит: — Гоп! Гоп! Хочу быть с царской дочерью в дремучем лесу, где я с братьями плутал. Царевна и крикнуть не успела, как оказались они на лесной поляне, на траве-мураве. Сдёрнул Тодераш шляпу, признала его царевна и прикинулась, будто рада. — Чудной ты, Тодераш! — говорит.— Что же ты меня сразу не увёз? Я же хотела за тебя пойти, да отец с матерью противились. Вот пусть теперь поплачут. Заживём мы с тобой в лесу, я тебя научу, как кошелёк и рог вернуть, как обидчиков проучить. Ластится к нему царевна, приговаривает: — Вот бедовый, вот молодец, сумел своего добиться! А Тодераш и размяк. — Давно бы,— говорит,— тебя умыкнул, будь у меня эта шляпа. Её наденешь — невидимкой станешь. А стоит сказать: «Гоп! Гоп! Хочу быть там-то и там-то!» — вмиг куда хочешь перенесёшься. Сказал — а царевне только того и надо. Стала она его нежить да голубить, пока Тодераша сон не сморил. Тогда надела она его шляпу на себя и говорит: — Гоп! Гоп! Хочу быть в отцовских палатах! И впрямь очутилась у себя во дворце, а Тодераш на поляне спать остался. Вот проснулся он, хватился — нет ни царевны, ни шляпы. Что тут делать? К братьям стыдно на глаза показаться, раз их подарки из рук упустил. И пошёл Тодераш по лесу куда глаза глядят. Впору хищному зверю на растерзанье себя отдать — так ему свет не мил сделался. Вот бродит он, бродит по лесу, жажда его донимает, голод мучает,— и выходит к раскидистой яблоне, яблоки на ней — с кулак величиной, румяные, налитые, так в рот и просятся. Сорвал Тодераш сразу два яблока, съел, и вдруг выросли у него на голове рога, тяжёлые, витые, как у вола. «Ну и ну! — думает Тодераш.— Так мне и надо. Попали мне чудные дары, а я их из рук выпустил, за царской дочерью погнался. Бодайся теперь, дурья башка, вот тебе царская дочь!» Не стал он больше заколдованные яблоки рвать, побрёл прочь. Только отошёл, глядит — грушевое дерево, на ветках груши величиной с гусиное яйцо, золотистые, с румяными бочками. Хочется Тодерашу и есть, и пить, а попробовать грушу — боязно. Потом рукой махнул. «Эх, чему бывать, того не миновать». Сорвал грушу и съел. Смотрит: один рог у него отвалился. Поблагодарил он судьбу, съел вторую, не стало у него и второго рога. Стал тут Тодераш думу думать. И надумал. Вернулся к яблоне, нарвал яблок, сколько мог унести, и про груши не забыл. Потом стал дорогу искать и скоро из лесу вышел. Добрался до города, а народ как раз из церкви идёт. Разложил Тодераш яблоки, народ вокруг него столпился, как на ярмарке. Таких дивных яблок отродясь никто не видывал. Спрашивают его люди, что он за них просит, а Тодераш и отвечает: — Четыре сотни за яблоко. Люди подивились: за такую цену можно пару волов купить. Дошла молва о чудесных дорогих яблоках до царского дворца. Царевна не утерпела, дала служанке денег и наказала купить четыре яблока: отцу с матерью по одному, а пару — себе. Принесла служанка царевне яблоки. Дала она по яблоку отцу с матерью, себе два взяла и ушла на свою половину. Царь яблоко съел — и вырос у него на лбу рог. Царица яблоко съела — и тоже рог на лбу получила. А царевна — лакомка, как все девицы,— сразу два яблока умяла, и выросли у неё настоящие воловьи рога. Только сразу не заметили ни царь, ни царица, ни царевна, что с ними стало. Вот собрались они все к обеду, глянули друг на дружку и обмерли. — Папенька,— говорит царевна,— что это у вас рог на лбу? И у маменьки тоже. Так и ахнули царь с царицей. — А у тебя, доченька, не один, а два! — говорят. Созвали они лекарей со всего света, каких только снадобий не испробовали, ничего рога не берёт. А Тодераш на деньги, что за яблоки выручил, купил в лавке лекарское платье, шляпу, здоровенную, как ведро, да чёрные очки. Нацепил всё на себя и пошёл вразвалочку — чистый лекарь. Приходит он к царскому дворцу. — Ты кто таков? — спрашивает его привратник.— И зачем явился? — Я лекарь, лечу от рогов. Хочу царю представиться. — В добрый час тебя принесло,— говорит привратник.— У царя-то как раз рог вырос. И пропустил Тодераша во дворец. Царь обрадовался. — Хорошо, что ты пришёл,— молвит.— Видишь, какая беда: у меня рог вырос ни с того ни с сего. И у царицы тоже. А у дочки нашей — сразу два. Нам-то с царицей что, мы своё пожили. А дочку жалко. К ней сватов засылать перестали. Возьмёшься нас исцелить — ничего для тебя не пожалею. — Возьмусь, а как же,— отвечает Тодераш. Достал он склянку с мазью и грушу. — Отведай грушу, царь-государь, пока я над рогом хлопотать буду! Царь грушу ест, а Тодераш притворяется, что он рог мазью намазывает. Съел царь грушу, Тодераш взялся за рог, тот у него в руках и остался. Царь себя не помнит от радости, наградил Тодераша кошельком золота и повёл к царице. Тодераш и царицу так же вылечил, ещё один кошелёк получил. Настал черёд царевны. Тодераш говорит: — С барышней, мои милые, дело посерьёзней будет, рогов-то пара, да ещё таких увесистых. Исцелить-то я её исцелю, но так скоро не управлюсь. Оставьте-ка нас вдвоём и раньше, чем через час, не заходите. Рога сперва подпилить придётся, царевне больно будет, станет она кричать, вас звать, а вы послушайте меня, не входите, если хотите, чтобы ваша дочка опять такой стала, как была. — Тебе виднее,— отвечают царь с царицей. А царевна сидит — рада-радёшенька, что такой учёный лекарь нашёлся, родителей исцелил и её за час вылечит. Вот остались они одни, вынул Тодераш из кармана верёвку, привязал царевну к лавке и ну её плёткой охаживать. Она голосит-надрывается, а он знай её плёткой лечит. Час миновал, входят царь с царицей. — Ты что делаешь, господин лекарь? Этак ты её покалечишь! — Нет, царь-государь, это ей наука. Где мой охотничий рог, кошелёк да шляпа, что вы хитростью у меня выманили? Отдайте добром, не то и вам достанется. — Развяжи её, исцели, всё тебе вернём,— взмолились царь с царицей. Развязал Тодераш верёвку. Царевна сей же миг достала из ларя рог, кошелёк и шляпу. А взамен две груши получила. Забрал своё добро Тодераш и, не простясь, нахлобучил шляпу и молвил: — Гоп! Гоп! Хочу к родным братьям! И вмиг у братьев очутился. Вернул он им волшебные подарки и про все свои злоключения рассказал — точно так же, как я вам сейчас. Что с ним дальше стало — женился он или нет,— не знаю. Знаю только, что на царских дочек он больше не зарился. Верно, и поныне живёт, коли не помер.
|
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ А ещё 5 октября - Всемирный день учителя Учитель Ак-Тун. Тувинская сказка.
На севере, в устье Чинге-Кара –Хема жил старик Аганак со старухой. У них было семьдесят жёлтых коз и два белых слона. И был у них единственный сын Ак-Тун, знавший девять наук. А на юге, на берегу моря Кара-Далай жил Караты-хан, у которого тоже был один-единственный сын. Караты-хан узнал об учёности Ак-Туна и приказал Аганаку перекочевать на берег моря Кара-Далай. - Ты будешь пасти моих коней, твоя старуха будет доить моих коров, а твой сын будет учить моего сына! – сказал Караты-хан. Когда Аганак вернулся домой, сын спросил: - Что тебе сказал хан? - Он приказал перекочевать в его аал, - ответил старик. - Когда хан говорит, простой человек не может не слушать. Надо перекочевать, отец. Старик навьючил добром обоих белых слонов, впереди погнал жёлтых коз и перекочевал к морю Кара-Далай. Неизвестно, сколько лет они прослужили у хана. Ак-Тун научил ханского сына всему, что знал. Все девять наук постиг прилежный ученик. Однажды ханша говорит хану: - Пора нам избавится от учёного Ак-Туна. Он всё знает и на всё способен. Неизвестно, что он может сделать нашему сыну. Сегодня зарежем барана, накормим, напоим Ак-Туна и спящего убьём! - Хорошо, я убью его, - сказал хан. Всё это слышал сын хана. Он прибежал к учителю и быстро проговорил: - Мой отец хочет сегодня вечером напоить вас аракой и спящего убить! – И он рассказал всё, что слышал. - Ладно, приготовься, сегодня вечером мы вместе убежим, - ответил Ак-Тун. Вечером хан зарезал серого барана и пригласил старика Аганака с сыном Ак-Туном. Но ни Ак-Тун, ни ханский сын мяса не ели, араки не пили. Они легли спать, но не спали, а разговаривали. Хан и ханша не дождались, пока Ак-Тун заснёт, и заснули сами. Тогда парни встали, взяли остатки мяса и ушли. Шли они долго. Продырявились их идики, наросли на их пятках мозоли. И вот парни пошли по берегу длинной реки и пришли в неоглядную степь. Они увидели, что какие-то люди из-за чего-то дерутся, тянут каждый к себе какую-то вещь. - Из-за чего вы спорите? – спросил Ак-Тун. - Мы спорим из-за шапки-невидимки. Не можем решить, кто её хозяин. - Но ведь это так просто! – сказал Ак-Тун. – Идите все к тому холму, а я её подержу. Кто первый ко мне прибежит, тот и хозяин шапки. Люди побежали к холму. Ак-Тун надел шапку-невидимку, взял за руку ханского сына, оба они стали невидимыми и ушли. Они шли долго, пересекли степь и на перевале опять увидели людей, которые из-за чего-то дрались. - Из-за чего вы дерётесь? – спросил Ак-Тун. - Мы дерёмся из-за чёрных идиков, в которых человек летает по воздуху. Мы не можем решить, кто их хозяин. - Но ведь это так просто! – сказал Ак-Тун. – Идите все к тому камню, а я их подержу. Кто первый ко мне прибежит, тот и хозяин волшебных идиков. Люди побежали к камню. А парни надели по одному идику и улетели за перевал. Люди добежали до камня и обернулись. На перевале никого не было. «Ты во всём виноват! Нет, ты виноват!» - кричали они и продолжали драться. Однажды парни проснулись на восходе солнца и увидели рядом с собой старика в золотых идиках, на золотом коне. - Я уронил золотые гадальные кости, - сказал старик, - поищите их, дети. Парни поискали и нашли золотые гадальные кости. Они вернули их старику. Тогда старик сказал: - В нашем ханстве нет хана. Садитесь на этого коня, я отвезу вас в золотой дворец. Парни сели на золотого коня позади старика. Он привёз их к золотому дворцу. В нём сидела красавица. Лицо её излучало свет солнца, а затылок излучал свет луны. Парни узнали, что у неё уже было девяносто мужей. Девяносто ханов правили этой страной, но все они скоро умирали. Ак-Тун сказал: - Я – сын бедного пастуха, а мой друг – сын хана. Пусть он будет вашим ханом. Люди согласились. Сын Караты-хана стал ханом этой земли и устроил большой пир. Ночью, после пира учитель Ак-Тун задумался. «Почему все мужья этой красавицы погибали?» И вдруг увидел, что с верхнего мира на вороном с лысиной коне спускается человек с единственным глазом в середине лба. Ноги вороного коня коснулись земли, чёрный человек подхватил красавицу, посадил её на коня и полетел с ней назад, в верхний мир. Ак-Тун быстро надел шапку-невидимку и летающие волшебные идики и полетел за ними. В верхнем мире они остановились у входа в огромную пещеру. - Что за человек новый хан? – спросил одноглазый чёрный всадник. - Да так, обыкновенный паршивый мальчишка, завтра сыграю с ним в шахматы – посмотрю, что он за человек, - ответила красавица. – Но у него есть учитель Ак-Тун. Его сразу не раскусишь, - добавила она с раздражением. Наутро учитель спросил у хана: - Что нового узнал? - Ничего не узнал. Хорошо выспался, - ответил тот. - А я узнал, что твоя жена знается с чёрным одноглазым шулбусом из верхнего мира. Он спускался сюда на лысом вороном коне. Вот почему умирали все ханы этой земли. Сегодня ханша предложит тебе сыграть в шахматы. Я буду стоять за тобой в шапке-невидимке и помогать тебе. Скоро красавица и молодой хан сели за шахматы. Ак-Тун хану помогал играть, а ханше – мешал. Молодой хан обыграл красавицу трижды. Трижды поставил ей мат пешкой! Кончив игру, он стал напевать:
Чёрный шулбус приснился мне, Чёрный, одноглазый, на лысом коне.
- Как всё странно! – воскликнула красавица, вскочила и убежала. На следующую ночь опять прилетел чёрный одноглазый шулбус на лысом вороном коне, разбудил красавицу, и они улетели. Ак-Тун полетел за ними. Остановились у той же самой пещеры. - Ну что, сыграла с ханом? - Сыграла. Этот мальчишка Трижды поставил мне мат пешкой! Да ещё напевал что-то очень странное: про чёрного одноглазого шулбуса. - Какой ядовитый парень! Завтра же ночью прострелю его лоб большой чёрной иглой! Положи его рядом с собой, чтобы я мог стрелять через дымовое отверстие, - сказал шулбус. Прошло два дня, как ханством стал править новый хан. Народ говорил: - Прошло всего два дня, как у нас новый хан, а кажется, что прошло два года. Утром Ак-Тун спросил друга: - Что нового узнал? - Ничего не узнал. Хорошо выспался. - Ничего ты, друг, не замечаешь. Сегодня не пей много араки. Вечером свари густой жёлтый чай в твоём медном китайском чайнике и закрой чайник крышкой. На стальную тарелку положи сахар и ложись около кровати. Об остальном позабочусь я. Вечером хан сказал ханше: - Свари мне густого чая в моём медном чайнике и закрой его крышкой. Рядом поставь стальную тарелку с сахаром. Такая уж у меня привычка! – А сам лёг около кровати. В полночь раздался гром. Ак-Тун глянул в дымовое отверстие и увидел, что чёрный одноглазый шулбус на лысом коне уже спустился с неба. Он висел в воздухе над юртой и прицеливался в голову хана. Ещё миг – и он пронзил бы её большой чёрной иглой. Ак-Тун взял чайник и повесил его над головой товарища. Игла попала в чайник и расплавилась в кипятке. На следующую ночь шулбус опять прилетел и опять увёз красавицу в верхний мир. Ак-Тун поспешил за ними. Остановились у той же самой пещеры. - Что за человек! Превратился в каменного богатыря и спит! Моя игла его не пробила! – кричал чёрный шулбус. – Завтра скажи хану: «Будем освящать огонь». Я превращусь в ястреба и свистну над юртой. Ты скажи: «Хан, выйди, посмотри что там?» Когда он выйдет и посмотрит вверх, я простелю ему горло! Утром Ак-Тун спросил друга: - Что нового узнал? - Ничего. - Слушай: сегодня вечером ханша предложит тебе освящать огонь. Ты соласись. В большом котле, который висит над очагом, растопи масло и ходи вокруг огня. Когда ханша попросит тебя выйти из юрты – не выходи! К вечеру ханша сказала: - Сегодня будем освящать огонь. Молодой хан растопил масло в большом котле и стал ходить вокруг огня. Вдруг над юртой засвистел ястреб. - Хан, пойди-ка, посмотри, что это? – сказала ханша. - Ты ведь огонь освящаешь, а не птицу! А я не сторожевая собака, чтобы выскакивать на каждый свист! – крикнул хан и стукнул ханшу по голове черпаком. Ястреб в это время сел на юрту и заглянул в дымовое отверстие. Ак-Тун схватил его и бросил в котёл с кипящим маслом. Ястреб вынырнул из масла и вылетел из юрты. В эту ночь вороной с лысиной конь прилетел один, без шулбуса. Красавица села на коня и поднялась в верхний мир. Ак-Тун прилетел вместе с ней. Одноглазый чёрный шулбус медленно шёл к пещере. Он весь обгорел. - Ты меня погубила, - сказал он. А потом опустился на колени и умер. Ак-Тун подумал: «Теперь моему другу ничего не грозит. Теперь он может спокойно править этим ханством. А мне пора ехать домой, к отцу и к матери». Утром он сказал хану: - Я всё сделал, что мог для тебя сделать. Теперь я должен ехать домой, к отцу и к матери. Шапку-невидимку и летающие идики я оставлю себе. Хан сказал: - Я согласен. Пусть волшебная шапка и волшебные идики останутся у тебя. В новолуние, в начале дня он проводил своего учителя. Ак-Тун вернулся домой и увидел, что Караты-хан сломал руку его отцу, выколол глаз его матери, забрал семьдесят жёлтых коз и пустил их в своё стадо. Парень побежал к хану. - Вместо того чтобы соблюдать законы и честно править ханством, вы нарушаете законы и издеваетесь над невиновными людьми! – закричал Ак-Тун. Он так рассердился, так сжал челюсти, что чуть не выломал свои передние зубы, он так разгневался, что чуть не раскрошил свои коренные зубы! И тогда он размахнулся и ударил Караты-хана ладонью по щеке. Ханская голова слетела с плеч как шишка, и покатилась по земле. Ак-Тун пришёл к ханше. - Что ты хочешь – кровь и мясо или коней четырёх мастей? - Коней четырёх мастей, - ответила ханша. Ак-Тун привёл коней четырёх мастей, привязал ханшу к четырём хвостам и пустил коней в степь. А потом он пошёл на священную гору Арзайты, выкопал там корни целебных трав Эм-шагаан и дом-шагаан и вылечил ими руку отца и глаз матери. Рука стала двигаться, а глаз стал видеть. Жил учёный добрый Ак-Тун со своими родителями долго и счастливо. Пока они жили, удлинились овраги, углубились лощины. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 5 октября также Всемирный день архитектора Владимир Рыбин Зодчие
...и в субботу на вербной неделе... Государевы зодчие Фартуки наспех надели, На широких плечах и Кирпичи понесли на леса... - Неправильно! - закричал Вовик. - Что неправильно? - удивился учитель, и очки его смешно поползли на лоб. - Зодчие кирпичи не носят. Надо говорить: "рабочие фартуки надели". - Гм, а зодчие что делают? - Зодчие творят, создают проекты, ищут красивые формы домов, дворцов, городов... Да вы сами говорили... - Что я говорил? - Вот это самое. - Но ведь зодчество не только создание красоты. Это прежде всего жизненно необходимое деяние... Они шли по широкой тропе среди густых зарослей цунги, и учитель, считая, что каждый миг общения с воспитанником важен для воспитания, читал Вовику стихи древних поэтов. Солнце раскаленным пузырем висело в бледном небе Аранты, и если бы не ветер, дувший навстречу, то в этом зеленом коридоре можно было бы задохнуться. Посередине тропы валялась маленькая веточка. Учитель поднял ее, отбросил в сторону. Ветка отскочила от плотной зеленой стены и снова упала на тропу. Тогда учитель засунул ее меж других веток и поспешил догнать Вовика, успевшего убежать вперед. Вовик всегда убегал, когда учитель отвлекался. Это была его игра: заметил раз, что учитель боится оставить его одного хоть на миг, и каждый раз старался улизнуть. Он был совсем не злым мальчиком, но кто из ребятишек не старается делать по-своему, если его излишне опекают? - А если ящер навстречу? - припугнул учитель. - А вы сами говорили, что здесь они не водятся. - Ящер ведь не знает, что я об этом говорил. Вовик весело рассмеялся, и учитель сразу перестал сердиться, так он любил, когда его подопечный смеется. - А вы видели ящера? - Видел... Один раз... - Вы никогда об этом не рассказывали. Расскажите. Рассказать? Нет, он этого рассказывать не будет. Воспитанник не должен даже в воображении своем видеть учителя слабым, униженным грубой силой. Даже если эта сила - страшный ящер Аранты, обладающий такой способностью к мимикрии, что и в десяти шагах его трудно заметить, и такой стремительностью, что человек обычно даже не успевает вскинуть оружие, как оказывается сбитым мощным хвостом. А дальше... Дальше страшно даже думать. Ящер в мгновение ока отгрызает голову жертвы и уползает, сопя и облизываясь. Остальное его почему-то не интересует, только голова. Первые переселенцы на Аранту, эту удивительную планету, так похожую на Землю, оборонялись против ящеров с помощью сложных сооружений. Но все равно было немало жертв. Пока ящерам Аранты не объявили самую настоящую войну. Покончили с ними биологи с помощью обычных земных тараканов, которые, как выяснилось, оказались прекрасными распространителями ящерной чумы. Теперь ящеры водились только на одном острове, отделенном от материка огромными просторами океана. Этот остров не посещался людьми, и там было что-то вроде заповедника, где мир Аранты сохранялся в неприкосновенности. Но однажды, еще в молодости, учитель встретил ящера на такой же вот тропе в зарослях цунги. Откуда он взялся, так и не удалось установить. Вероятно, это был случайно уцелевший экземпляр. Ящер был то ли сытый, то ли больной, он кинулся не сразу, и это спасло учителя. В следующий миг плотный заряд лучевой энергии испепелил ящера. Выручил робот, сопровождавший учителя. Потом кое-кто жалел, что ящера не усыпили, а уничтожили: ленивый, неповоротливый зверь был для ученых новостью. Но сам учитель не жалел об этом никогда, такого страху он в тот раз натерпелся... - Расскажите, - снова попросил Вовик. - В другой раз, - сказал учитель. И пожалел, что так сказал. Вовик был не из тех, кто забывал про обещанное ему. Хотя про свои обещания он забывав часто. - А зачем вы все веточки убираете с дороги? - Чтобы дорога не зарастала. Я же тебе говорил. - Я и сам знаю. - Почему же спрашиваешь? Вовик не ответил, и учитель счел вопрос исчерпанным. Каждый ребенок знал, как быстро разрастается цуига. Маленькие деревца похожи на земные елочки. Но иголки на них не простые. Если присмотреться, то можно увидеть на каждой иголке множество оспинок. Это точки роста. Из каждой такой точки проклевывается росточек в свою очередь похожий на "иголку. И на каждой иголке свои точечки. Упавшая ветка не усыхает, а быстро прорастает: иголки, оказавшиеся внизу, уходят в грунт и становятся корнями. Стоит только недоглядеть, как такая веточка быстро превращается в куст, в дерево, наконец, в целую рощу, через которую не пройти, не пролезть, так плотны заросли. Лишь у старых цунговых рощ, где нижние ветки, совершенно лишенные света, отмирают, внизу появляются пустоты, в которых, как в пещерах, темно и сыро. Заросли, через которые они шли, были еще молодые, плотные, словно два зеленых вала нависали над дорогой. - А они что, каждый день собирают ветки? - спросил Вовик. Учитель понял: речь об антах, аборигенах, обитающих на Аранте обособленными городищами. Странное имя дали земляне-первопоселенцы этим маленьким созданиям, похожим на толстых, неуклюжих кукол. Антей по древней земной мифологии все-таки великан, а эти - лилипуты, да еще пугливые, замкнутые, упорно не желающие вступать в контакт с людьми и допустить в свои городища. Впрочем... если бы и допустили, то еще неизвестно, каким образом людям удалось бы проникнуть в лабиринты, слепленные из глины, которые, собственно, и образовывали городище. - Почему вы не отвечаете? - спросил Вовик. - Да, да, конечно, каждый день собирают ветки. Это же их дорога, чуть запусти, и она зарастет. - А почему мы не поставим сюда машину? Пускай бы каждый день чистила. Анты нам только спасибо скажут. - Не скажут. Уже пробовали. По дорогам, проложенным машинами, анты не ходят. - Почему? - Вот этого никто не знает. Не ходят, и все. Тебе же известно, как они замкнуты. - А вот и не замкнуты, - возразил Вовик. - Я знаю. Он и в самом деле что-то такое знал, этот Вовик. Анты почему-то не чурались его. Не все, конечно, но некоторые прямо-таки бежали к нему, когда он выходил из зарослей цунги на огромное, усыпанное щебенкой плато, на котором неподалеку друг от друга стояли целых три городища антов. Что-то такое знал Вовик, да не говорил. Или он и сам ничего не знал, а просто анты чувствовали его детскую бесхитростность. А может, потому его выделяли, что был он мал ростом, ниже своих сверстников, и это как-то сближало его с куклоподобными антами. Во всяком случае, прецедент был весьма любопытный, и внимание всего поселения землян в последнее время было приковано к Вовику. На этот раз, когда они вышли на плато, их никто не встретил. В бесформенных нагромождениях бурых бугров - городищах антов не было видно никакого движения. И вообще вся эта каменистая пустыня будто вымерла. Такого еще никогда не бывало. И в той стороне, где громоздились кубы "Вовиковой игрушки" - города, который он строил по своему разумению и собирался подарить антам, - тоже лежала печать неподвижности. - Погоди, Вовик, надо осмотреться. Что-то не так сегодня, - обеспокоено сказал учитель. Вовик и сам видел, что не так, остановился у кромки цунговых зарослей, вопросительно посмотрел на учителя. Солнце палило, поднимаясь все выше, и стоять долго на открытом месте под пеклом было невмоготу. Потом, то и дело оглядываясь, они пошли к "Вовикову городу", пошли той самой тропой, которой ходили много раз. Издали это действительно походило на город: кубики домов высотой в рост человека стояли ровными рядами, отделенные друг от друга достаточно широкими улицами. А все начиналось с игры. Вовик, наглядевшийся на тесные поселения антов, вдруг задался целью построить для них целый город с просторными домами и улицами, показать пример, как надо жить по-человечески. С завидной уверенностью детства он уверял, что анты не смогут не оценить заботу о них и что этот подарок послужит первым шагом к давно желанному доброжелательству. Взрослые посмеивались над наивностью Вовика, но ему никто не мешал, это было бы непедагогично. Вовик сам спроектировал свой город, взяв за образец - что все видели, но чего никто ему не говорил, - картинку из детской книжки, где были изображены города, оставленные на Земле давними предками переселенцев. Сначала строить Вовику помогал робот, который понатаскал туда множество всяких механизмов. А потом случилось то, чего никто не ожидал. Однажды посмотреть на строительство пришли двое молодых антов. Это был первый случай, когда аборигены пошли на контакт, и о "Вовиковом городе" заговорили все. Затем в город пришли еще двое аборигенов. Тогда поселение землян затаило дыхание, ожидая, что получится из Вовиковой затеи. А получилось самое неожиданное: каким-то образом Вовику удалось заставить этих первых любопытствующих антов приняться за работу. Вовика расспрашивали, как это ему удалось, но он только пожимал плечами, А может, он и в самом деле ничего не знал, действовал по таинственной детской интуиции, которая, как известно, не поддается взрослой логике. Суетливый робот со своими самоходными агрегатами все время пугал антов, и тогда Вовик принял поистине мудрое решение: велел роботу совсем убраться со строительной площадки. Тут, несмотря на свои десять лет, он рассудил совсем по-взрослому: решил, что город, если анты построят его своими руками, будет для них желаннее. Вовик очень гордился своим городом и не подпускал к нему никого из сверстников. Взрослые и сами сдерживали ребятишек, опасаясь, что появление на стройплощадке толпы мальчишек и девчонок сорвет интересный эксперимент. Обычно, когда Вовик выходил из зарослей цунги, ему навстречу выбегали все анты, принимавшие участие в строительстве. А было их уже около десятка. Они бурно радовались приходу Вовика и делали все, что он им говорил. А к вечеру уставали так, что едва стояли на ногах. Некоторые валились прямо на улице и засыпали каким-то тяжелым непробудным сном. Маленькие и жалкие, они лежали в пыли в самых разных позах, и было неприятно и почему-то страшно смотреть на их неподвижные тела. Сейчас на окраине города не было никого. Это тревожило, но не давало оснований поворачивать назад. И они, ученик и учитель, медленно пошли через голый щебеночный пустырь. Когда до города оставалось не больше ста метров, они услышали впереди какой-то шум. Замерли на месте, прислушиваясь, и вдруг учитель почувствовал, как у него похолодела спина: меж крайних домов-кубиков он увидел вытянутую вперед крокодилью морду ящера. Теперь стало ясно, отчего опустели городища актов и почему никто из строителей не встречает. Можно было, должно было предугадать опасность, а он, вроде бы опытный человек, этого не сделал и повел ребенка на верную смерть! Оружия у него никакого не было, а бежать от ящера, да еще по голому плато, совершенно бессмысленно. Он стоял, больно сжав руку Вовика, и лихорадочно соображал, что теперь делать. Мелькнула мысль: откуда в таком населенном месте взяться ящеру? Но теперь было не до отгадки. Он стоял и удивлялся, почему ящер не кидается сразу? Но вот ящер оскалил свои желтые зубы, шевельнулся, и из глубины недостроенного города послышался шум: мощный хвост, по-видимому, рушил постройки. И наконец он побежал вперед. Лениво побежал, будто нехотя. И вдруг исчез. Пыль столбом взметнулась на месте, где он только что был. И неведомо откуда донесся страшный предсмертный вой. Вовик рванулся в сторону, но учитель удержал его, крепко сжав руку. Острый хвост ящера вздыбился над дорогой и опал, рухнул, словно его подрубили. И тут учитель понял, что ящер просто провалился в какую-то яму. Откуда на дороге взялась яма, это было непонятно. Сколько раз они проходили здесь, и никогда никакой ямы не видели. Да еще такой, чтобы в нее мог провалиться большой зверь. Но теперь яма, к счастью, была. И учитель увидел ее, когда, переборов себя, подошел ближе. Свежие края говорили о том, что яма недавно вырыта. Зачем? Специально для ящера, чтобы он не нападал на людей? Но кто мог знать, что ящер появится именно с этой стороны? Кто мог вырыть яму да еще предусмотрительно вкопать в ее дно острые колья? Анты?.. И тут учитель похолодел от мысли, что яма предназначалась вовсе не для ящера, а для него, для них с Вовиком. Только они должны были пройти этой дорогой. Сегодня, как и вчера, как позавчера, как ходили все эти дни. Ящер - случайное совпадение, спасшее их?.. Учитель вынул небольшую коробку радиопередатчика и сообщил о случившемся. Он собрался тут же идти обратно, но вдруг увидел впереди, в улицах "Вовикова города" совсем маленького сгорбившегося анта. (окончание следует) |
| Автор: Chanda | Владимир Рыбин Зодчие (окончание)
Присмотревшись, он понял, что ант очень старый, какой-то мохнатый от слишком длинных седых волос, свисавших с головы. Никогда учитель не видел такого старца и потому стоял и рассматривал анта, стараясь понять, что ему нужно, почему он прыгает там и машет руками. Наконец понял: он просто зовет их. Значит, там что-то случилось? И учитель, крепко держа Вовика за руку, побежал к городу. Не мог не побежать, потому что, как всякий учитель, был полон сострадания ко всему живому. Ант, как только увидел, что люди бегут к нему, перестал махать руками, стоял неподвижно, ждал, когда они приблизятся. Дождавшись, повернулся и пошагал по недостроенной улице с темными нишами квадратных окон. Учитель пошел следом: он уже знал, что, если ант так вот, ничего не говоря, поворачивается и неспешно уходит, значит, приглашает идти за собой. В молчании они прошли улицу, затем другую и оказались на площади, такой большой, что учитель никак не мог понять, зачем Вовику понадобилась эта обширность, Вовик, когда его спрашивали, отмалчивался. А может, он и сам не знал, зачем спланировал такую площадь. У дальнего ее края высилась башня, похожая на гриб из-за широкой шапки наверху. Шапка была смотровой площадкой - этого Вовик не скрывал. Наоборот, он очень охотно рассказывал, когда речь заходила об этой башне, говорил, что без смотровой площадки антам никак не обойтись, что, посмотрев сверху на этот город, они оценят подарок по-настоящему. Не доходя до башни, ант остановился и маленькой ручкой показал вперед. Там, куда он показал, что-то лежало ровненьким пунктиром. Еще до того, как разглядел, что это такое, учитель похолодел от страшного предчувствия. Подошел ближе и увидел, что это те самые анты, которые работали на строительстве. - Что тут случилось? - спросил он. И спохватился, вынул коробочку радиостанции, набрал код кибернетического переводчика и включил динамик погромче. - Что тут случилось? - повторил он в микрофон. Через мгновение динамик затрещал, защелкал по антовски. Старый ант удивленно посмотрел на учителя, на коробку в его руках и вдруг торопливо затрещал о чем-то, странно и часто причмокивая и словно бы всхлипывая. - Уходите и больше не приходите, - начало переводить радио. - Вы приносите несчастье. Анты не хотят иметь с вами никакого дела... - Их убил ящер? - спросил учитель, показывая на лежавшие в ряд трупики антов. И тут же сам понял, что ящер здесь ни при чем. Иначе чего бы они лежали целехонькие, в ряд? - Они умерли от опасной болезни, - прощелкал старый ант. - Болезнь принес этот мальчик, - указал он на Вовика. - Он давал еду, которой нельзя насытиться, но которая заставляла антов забыть о доме, о труде, о других актах и думать только о том, чтобы лизать ядовитый корм. И чем больше они лизали его, тем больше, хотели. Эта болезнь заставляла их целыми днями заниматься глупостями здесь, в нагромождении никому не нужных камней... - Это не глупости! - закричал Вовик. - Мы строили город для вас же... - Анты никогда не будут здесь жить. - А вот они говорили, что будут. - Вовик показал на мертвых строителей и, испугавшись, что посмотрел в ту сторону, спрятался за учителя. - Они потеряли головы, наедаясь отравы. Они могли говорить и делать все, что угодно. - Какой отравы? - спросил учитель, повернувшись к Вовику. - Чем ты их кормил? - Ничем!.. Впервые за все время учитель не поверил ему, но не подал виду: нельзя показывать воспитаннику, что ты ему не веришь. - Он хороший мальчик, если он что-либо делает, то только с благими намерениями, - сказал учитель. - Благими намерениями выстлана дорога в ад. - Что?! - удивился учитель и, выключив динамик, спросил точно ли так сказал старый ант, попросил повторить. - Глупая доброта хуже зла, - сказал автомат-переводчик. - Фраза труднопереводимая, но смысл ее примерно такой. Это было неожиданно и по-новому показывало аборигенов. Люди думали, что мышление актов не выходит за утилитарные рамки, а они, оказывается, способны к философским умозаключениям... А старый ант, словно подтверждая эту мысль учителя, вдруг заговорил о том, что всякое разумное существо, живущее среди себе подобных, сильно только тогда, когда оно занимается своим делом, если его заставить делать чужое дело, оно, это разумное существо, очень быстро перестает понимать свое место в жизни и становится беспомощным, как ребенок. А если многие, анты начнут заниматься не своим делом, то очень скоро актов не станет совсем. Цунга не может не расти во все стороны, иначе это не цунга. Ящеры на воле не могут не быть хищниками. Если их обречь на голод, а затем начать кормить только зелеными ветками цунги, они становятся не ящерами, а домашними животными... Он еще что-то говорил в этом же роде, но учитель уже не слушал, он думал о том, что хоть "Вовиков город" и не будет построен, все же он, этот город, послужил некой точкой соприкосновения с недоступными антами. Выяснилось, например, что анты мудры. Учитель терпеливо дожидался, когда старый ант перестанет говорить, чтобы задать какой-либо другой вопрос. Такого рода беседы были очень большой редкостью, и если уж разговор получился, то его следовало продолжать как можно дольше. Каждое слово, каждый оборот мысли, каждый прямой или уклончивый ответ будут потом исследованы лингвистами, психоаналитиками, социологами. И потому учитель готов был забыть даже о Вовике и продолжать эту беседу без конца. Но ант не оправдал его надежд. Он вдруг резко прервал монолог, повернулся и быстро пошел, покатился по самой середине улицы, не приближаясь к домам, словно они были свежеокрашены и о них можно было испачкаться. Отойдя достаточно далеко, он остановился, обернулся и стал ждать, когда люди уйдут. - Ну что ж, Вовик, пошли домой, - сказал учитель. Вовик покосился на лежащих у стен антов и тяжело, совсем как взрослый, вздохнул. Затем он вздохнул еще раз, уже облегченно, сунул руку в карман, вынул коробку с леденцами, еще раз покосился на мертвых антов и снова убрал коробку. - Ты их конфетами кормил? - догадался учитель. - Так они сами просили. Прямо как сумасшедшие были, когда я коробку вынимал. - Что они говорили? - Ничего не говорили. Смотрели так, будто никогда конфет не пробовали. А сосали... уж я и не знаю. Даже глаза закатывали от удовольствия. - Значит, это и было для них отравой. - Конфеты?! - Для тебя конфеты, а для них, как видно, яд. Ты слышал, что говорил старик? - Если бы яд, они бы умирали. А они не умирали. За каждый леденец готовы были делать все, что угодно. А вы говорите - яд... - Как тебе объяснить... Это по-другому - яд. Так они были анты как анты, а наевшись конфет, забывали, что они анты, забывали про свои дела и обязанности. Ты разве не понял, что говорил старик? - Понял, - сказал Вовик и оглянулся на башню, на одинокую фигурку старика, темневшую в просвете улицы. Рука его, зажатая в большой ладони учителя, мелко дрожала. Они медленно шли по дороге, и учитель думал о том, что анты, возможно, не сами умерли. Вполне возможно, что их убили. Как носителей болезни, опасной для коллектива. Как отщепенцев. В назидание другим антам, в назидание людям, чтобы больше не лезли со своими "благодеяниями". И яму вырыли, и весь этот спектакль с ящером разыграли для предупреждения... Учитель резко остановился от этой мысли, дернув Вовика за руку, Значит, они знали, что ящер побежит именно тут?! Может, они сами его и выпустили? Значит, у них, что же, есть прирученные ящеры?.. Вспомнилось, как старик говорил, что если ящера кормить зелеными ветками цунги, то он становится домашним животным. Но зачем маленьким актам огромные ящеры?.. Мало ли зачем. Может, просто на мясо... И тут ему пришло в голову, что тот неизвестно откуда взявшийся ящер, так напугавший его в молодости, тоже, возможно, был не дикий, а прирученный. Значит, у актов давно существует животноводство? Как же люди это проглядели? А впрочем, много ли известно об актах? А много ли понятно? Только то, что соответствует воззрениям людей?.. - Знаешь, давай догоним старика, порасспросим еще, - сказал учитель. И, не отпуская руки Вовика, быстро пошел назад, через площадь, к темневшей в улице фигурке акта. Но тот не стал дожидаться, исчез куда-то, словно провалился. - Послушай, Вовик, тут все гораздо сложней, чем мы думаем, - сказал учитель, остановившись. - Они не хотят, чтобы мы давали им что-либо по своему разумению. Потому что наше разумение, как видно, совсем не соответствует здешнему... - Он поморщился, машинально поймав себя на жаргонном словечке. Но тут же забыл о своей оговорке. То, что пришло ему сейчас в голову, было куда важнее, куда значительнее. - Мы ведь как ищем с ними контакта? Предлагаем, можно сказать, навязываем наши знания, наши представления о том, что хорошо, что плохо. Но видишь, Вовик, что для нас сладко, для них - яд. Надо предлагать, не навязывать. Да еще и с оглядкой... Хорошо еще, что ты начал строить свой город в стороне. А если бы на месте их же городища? Мог ведь приказать роботу разрушить несколько лачуг и на их месте возвести то, что, по-твоему, дворцы. Это было бы совсем нетрудно, верно? Ведь анты разбегаются, когда приходит робот, и никого в жилищах не остается... - А я так сначала и хотел, - признался Вовик. - Хорошо, что расхотел. Все-таки ты, значит, умный парень. - Конечно, умный, - сказал Вовик. - Вот как? Значит, хвастливый? Плохо это, хвастливые редко бывают умными. Вовик ничего не ответил, но учитель и не заметил этого. Он все думал об актах, об этом странном народце, не желающем поступаться ничем из привычного им. Такая стойкая последовательность! Может, не зря их назвали актами? Может, первые поселенцы землян на Аранте усмотрели это стойкое в их привычках, в их характере? Легендарный Антей был ведь силен до тех пор, пока стоял на земле. На своей земле, которая была для него матерью. Он стал беспомощным лишь тогда, когда его оторвали от земли. Не то же ли самое только что говорил старик? Значит, и для них это истина? Нельзя отрываться от родины, от своего родного и привычного, иначе перестанешь быть самим собой. Пашешь землю - ты пахарь и хлебороб, перестал пахать, бросил свое дело - ты никто. Станешь сильным в другом? Едва ли. Но если и станешь, то не в своем деле, а в чужом, нужном не своим, а чужим. И анты оказались достаточно мудрыми, чтобы понять: если людям удалось оторвать их от привычных дел, заставить строить города, в которых надо жить по-другому, то они, живя по указке людей, перестанут быть антами, а людьми не сделаются. В лучшем случае они станут хорошими слугами людей. - Вот что, Вовик, давай ломать эти дома, - сказал учитель. - Почему?! - обиженно воскликнул Вовик. - Подумай сам, ты же умный мальчик. С нашей стороны, это будет жест доброй воли. Вовик молчал, нахмурив лоб, то ли сосредоточенно думал, то ли обижался. - Потом мы пришлем роботов, они тут все выровняют. Но сейчас нужно самим, своими руками, чтобы это видели анты. - Но их же нет никого. - В это я теперь не верю. Сейчас они наверняка наблюдают за нами, ждут, что мы будем делать. Они проверяют нас, понимаешь? Если мы выдержим эту проверку, значит, сделаем немалый шаг к тому, чтобы они поверили нам. Ради доброжелательного контакта, ради доверия нужно не только строить, а иногда и разрушать уже построенное. Ну что, начнем?.. |
| Автор: Chanda | Джозеф М.Ши МАГАЗИН ДАРОВ СТАРОГО СВЕТА
Мы с женой, поразмыслив, решили, что парочки каменных скульптур – может быть, тех самых традиционных львов - как раз и недостает, чтобы подчеркнуть изящество балюстрад по обеим сторонам лестницы, ведущей к парадной двери нашего дома. Я извлек телефонную книгу, и обнаружил, что единственное заведение у нас по соседству, значившееся под рубрикой "Садовые статуи", называлось "Магазин Даров Старого Света". Когда я позвонил, голос со странным акцентом произнес: "Здравствуйте, я вас слушаю". Поскольку простым "здравствуйте" не принято отвечать в деловом мире, я спросил, действительно ли разговариваю с "Магазином Даров Старого Света", и мне сказали - да, так и есть. Потом тот же голос сообщил, что садовые статуи у них еще имеются, и объяснил, как к ним добраться. "Магазин Даров Старого Света" оказался большим викторианским особняком; его темно-зеленые с сединой стены очень нуждались в ремонте. В самый дом посетителей не впускали. "Магазин Даров" давно закрылся. Теперь продавались только садовые статуи, выставленные на крыльце особняка и в большом огороженном запущенном саду, окружавшем дом. Когда мы подошли ближе, невольно показалось, что это - кладбище, давным-давно заброшенное, где тут и там стояли треснувшие, поломанные памятники. Потом, очутившись в гуще статуй, мы поняли, что, будь это действительно кладбище, оно было бы поистине вселенским: там были изваяния всех времен и стран. Там были будды, христианские святые, восточные богини, мифические звери, эльфы и даже египетский сфинкс. И всем этим вселенским зверинцем распоряжался какой-то старик, от которого, казалось, как и от статуй, веяло чем-то неуловимо чужестранным. На старике и его каменных подопечных лежала печать усталости, как если бы они только остановились передохнуть здесь на долгом пути, конец которого неблизок. У старика был по меньшей мере один попутчик из плоти и крови, воплощенный в образе собаки с усыпанным серебром черным ошейником. Собака словно бы беспристрастно наблюдала за теми, кто пришел взглянуть на выставленные статуи. Старик и его собака смотрели на посетителей, возможно, с надеждой что-то продать, и, в то же время, с полнейшим смирением к любому исходу дела. Мы бродили среди статуй, но не могли найти ничего такого, к чему бы нас потянуло. Охваченные необъяснимым сочувствием к старику, мы очень хотели отыскать что-нибудь, но отчего-то были уверены: купив нечто не подходящее для нас, мы не облегчим путь старика и не поможем выполнить предназначение этого странного, околдованного места. В полнейшем отчаянии мы еще и еще кружили по лабиринту изломанных статуй, но ничего не помогало: эта испорчена, та - слишком высока, те две - не в счет. В конце концов мы взошли по шатким ступенькам на открытое крыльцо, полукругом огибавшее викторианский особняк посредине парка "Магазина Даров Старого Света". Старик последовал за нами, и там, среди множества статуй, показал нам четыре фигуры херувимов. Каждый херувим олицетворял один из сезонов года. Все они нам понравились, но разместить мы могли лишь пару. "Ну, ладно", - сказал старик, - "берите Весну и Осень, Обещание и Исполнение. Но не забудьте, что вы выбрали. Захоти вы когда-нибудь дополнить коллекцию, я не вспомню, что вы брали." Старик вызвал молодого человека в тенниске и джинсах, которые поддерживал черный, усыпанный серебром пояс, чтобы загрузить изваяния Весны и Осени в нашу машину. Мы расплатились со стариком и отправились в путь домой. Удовлетворенные, мы с женой выезжали из ворот "Магазина Даров Старого Света". Мы знали, что успешно прошли какое-то хитроумное испытание, если нам позволили найти жизнерадостных и верных стражей для дверей нашего дома. Когда "Магазин Даров Старого Света" исчез из зеркала заднего вида нашей машины, нас заставил вздрогнуть мимолетный порыв ветра. Мы на миг задумались - но лишь на миг - какова судьба тех, кто не выдерживает экзамена в саду "Магазина Даров Старого Света". |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 9 октября - Всемирный день яйца Про курочку, которая несла золотые яйца Украинская сказка
Жили себе дед да баба, была у них курочка ряба. Три года они курочку кормили, со дня на день яичка от нее ожидали. Ровно через три года снесла им курочка яичко, и было то яичко не простое, а золотое. Радуется дед и баба, не знают, что с этим яичком и делать, своим глазам не верят, что курица золотое яичко снесла. Попробовали его разбить, а оно такое крепкое, - не разбивается. Дед бил-бил, не разбил, баба била-била не разбила. Положили яичко на полку. Бежала мышь, хвостиком задела, упало на стол яичко и разбилось. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет: - Не плачь, дед, не плачь баба, я снесу вам яичко, не простое, а золотое, только три года подождите. Дед и баба подобрали золотые скорлупки и продали их евреям. Денег получили не много. Хотелось им поставить новую хату, да денег не хватало, надо было еще три года ждать, чтобы на хату достало. Подождали они неделю, подождали вторую, прождали и третью, больно долго им казалось, ждать надоело. Вот и говорит дед бабе: - Знаешь что, старуха? - Чем нам ждать целых три года, давай мы сразу зарежем курицу и достанем из нее золотое яйцо. Да там оно, видно, не одно, может их там штуки три, а то и четыре. Вот и заживем тогда, будет у нас новая хата, земельки купим и кланяться никому не будем. - Ох, и правда, дедусь, давай зарежем! Зарезали курочку, но ни одного не оказалось в середке яичка. Стали опять дед с бабой плакать. Высунула мышка голову из норы и говорит: - Не плачь, дед, не плачь баба, схороните вашу курочку в садике, на перекрестке, подождите три года, а потом откопаете на том месте клад. Да зарубите себе на носу, что все, чего пожелаете, не сразу получается. Закопала баба курицу возле сада на перекрестке, как раз возле поросли, воткнула для приметы палку. Ждут год, ждут второй, - не хватает терпения, захотелось им поскорее выкопать клад. Уже наступил и третий год, а они все ждут. Вот баба и говорит деду: - А давай мы, дедусь, посмотрим . - Не спеши, старуха, обождем маленько, тут уже немного осталось. Дольше ждали, теперь меньше осталось ждать. - Да нет, старый, мы ничего и трогать не будем , мы только посмотрим , наклевывается ли там наш клад. - Гляди, старуха, чтоб не испортить все дело. - Не бойся, дедусь, ничего худого не будет . Пошли они с заступом в сад. Копали-копали и выкопали целую кучу золотых жуков . Загудели жуки и разлетелись во все стороны. Так остались дед с бабою жить в старой хате, не довелось им новой поставить. А мышка высунула из норы голову и говорит: - Вы вот старые уже, а глупые. Чего не подождали, пока три года исполниться? Была бы вам большая куча червонцев, а теперь они все разлетелись. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 10 октября - Всемирный день психического здоровья В. Варламов. Чай с мелиссой
Последнее время Клюшкину беспокоил шум в голове. Сперва-то она, по сравнительной молодости и одиночеству, относила его на счёт окружающей среды, дошедшей у нас в Пимезонске до полного безобразия. Но как-то ночью, лёжа без сна в своей однокомнатной, сообразила, что кругом все соседи угомонились, даже этот шизик сверху. А в голове у неё словно бы марш из оперы Дж. Верди «Аида», сочинённой к успешному завершению великой стройки Суэцкого канала. В поликлинике её долго гоняли по кабинетам. В каждом мерили давление – везде разное. И назначили консультацию. А напоследок сказали, что без анализа на гиалуронидазу вообще говорить о чём-либо бессмысленно, анализ же этот временно не делают. Шумы тем временем совсем разыгрались, приближаясь к современным ритмам. Женский инстинкт подсказывал, что хорошо бы в этом случае какую-нибудь диету позаковыристей. Но какая теперь диета. Больше всего обстановка позволяла полное лечебное голодание. Однако инстинкт почему-то был против. Хотя ещё пару лет назад не возражал. По советам бывалых Клюшкина стала глотать всякие таблетки согласно наличию их в аптеке. От этих глотаний она чувствовала себя то неимоверно высокой – так что трудно было попасть ногой в тапочку, то наоборот, приземистой и тяжёлой, как лягушка на сносях. Или в виде шара заполняла всю комнату и боялась проколоться о люстру. На шумах, однако, это не отразилось. Сотрудница по службе в секторе газа, женщина глупая, но культурно развитая, дала телефон проверенного экстрасенса. Экстрасенс разочаровал. То есть внешне он смотрелся. Весь в бороде и не очень толстый, кругом иконы и подсвечники. Сразу сказал, что дело серьёзное: вся аура в дырках и биополе кем-то изуродовано. Клюшкина и сама чувствовала, что биополе ни к чёрту, и тут же кое-кого заподозрила. Бородатый долго ходил вокруг с проволочками и камнем на верёвке, бормоча под нос, как он важно сообщил «на санскрите». Вот этот «санскрит», пожалуй, и испортил обедню. Да ещё руками всё норовил прилипнуть, хотя и утверждал, что действует на расстоянии. Знаем мы эти действия. А под конец, с кряхтеньем устроясь в позу лотоса, объявил, что лечит не он, а Космос, упомянул о карме, от которой никуда не денешься. И потребовал, видимо, на нужды сразу всего Космоса, соответствующую плату. Деньги она, как человек воспитанный, конечно отдала не пикнув. Но аура у неё со звоном прямо-таки брызнула осколками. С тем и покинула рассадник парапсихологии, нехорошо поминая сотрудницу, галопом под собственную музыку домчалась до дому. Взлетела к себе на этаж, обогнав задышливую Вальпетровну, женщину добрую, но бесхитростную. - Мужика бы тебе завести, - не имея в виду обидеть, сказала Вальпетровна, пока соседка, шипя от злости, шарила в сумке эти чёртовы ключи. - Ещё чего! – заорала Клюшкина, обременив свою и без того нелёгкую карму непочтением к старости. И шваркнула дверью так, что чеканная русалка, томно дремавшая на стене прихожей, - подарок без вести пропавшего поклонника – с визгом сорвалась за комод. Туда ей и дорога, разлеглась тут. Дура хвостатая! Утро началось как всякое утро. Хуже некуда. После снотворного в голове рокотали тамтамы. Впереди ждал ненаглядный сектор газа. С кухни тянуло горелым. Радио вещало о захоронении отходов. Этот наверху врубил рокеров, чтоб их разорвало. Стоя на одной ноге, Клюшкина поперхнулась горячим, швырнула посуду в мойку и дёрнула на выход, привычно оглядев, всё ли на ней, потому что был случай… Нет, ничто не может столь молниеносно разъярить даже меланхоличную блондинку – любительницу сдобы, как поползшая петля на колготках, будь они прокляты. Клюшкина не была блондинкой. И когда она вылетела-таки на улицу, мир уже не мог ждать от неё ничего хорошего. Автобусная очередь указала ей своё место, добавив необходимые комментарии. Тревожная барабанная дробь в голове у Клюшкиной сменилась трубным звуком, коротким и страшным, как сигнал к кавалерийской атаке. О дальнейшем рассказывали по разному. В этих устных преданиях причудливо сочетались радиоактивные мутанты, Жириновский и НЛО. У нас в Пимезонске вообще любят передавать по кругу информацию с некоторыми уточнениями. На деле всё было проще. И загадочней. Водитель автобуса, как всегда опаздывая и заранее вызверясь, подруливал к остановке, но увидев разбегающихся в панике людей, благоразумно промчал мимо, раздавив что-то непонятное – то ли крысу, то ли кулёк с картофельными очистками. А может и взрывное устройство. Не сработало, однако. Старшина Иванов, следуя по делам службы на милицейском газике, издали заметил нарушение общественного порядка. По приближении же к месту происшествия зафиксировал остолбеневших граждан в числе трёх: старичка с газетой «Красная звезда», молодую женщину с открытым ртом и мужчину, вроде снабженца, в запотевших очках. Кои и были им погружены в машину для препровождения в отделение и снятия показаний. Проще всего было с Клюшкиной. Она ещё не пришла в себя и потому сообщить что-либо по факту происшествия не имела. Старичок с газетой, наоборот, имел, но настаивал на полной секретности в письменном виде и под грифом. Во избежание нездоровых тенденций среди населения, напрочь забывшего дисциплину и бдительность. Который вроде снабженец показал, что изо рта вот этой гражданочки или, я извиняюсь, девушки выпрыгнуло что-то размером с батон колбасы, известной у нас в Пимезонске под названием «мокрой». Каковая колбаса, видимо, заражённая бешенством, кидалась на людей и даже на автобус, но, попав под колесо, лопнула. - Протри очки-то, - посоветовала ошарашенная Клюшкина, больше от растерянности. За что получила строгий окрик дежурного. И перенесла бы его внутри себя, как многое в своей жизни. Но оба свидетеля начали тыкать в неё пальцем и кричать, что вот из-за таких наше общество пришло в полный упадок, и ещё надо проверить… Тут-то она и услышала снова трубный сигнал «Шашки подвысь!» и набрала побольше воздуху, и на стол дежурного свалилась невесть откуда ужасная тварь величиной с полено. Серая и полупрозрачная, спереди она имела вроде вентилятора, бешено работающего, а сзади крючковатую ногу, посредством которой пыталась броситься на лейтенанта, но поскользнулась на стекле и шлёпнулась на пол. Будучи при исполнении, дежурный немедля применил табельное оружие на поражение два раза. Грохот выстрелов слился с женским воплем и командой «В ружьё!» поданной старичком. Скучавший в коридоре глухонемой бомж заглянул в дежурку, но был отстранён подоспевшим капитаном милиции. - Совсем сдурели, - заключил бомж, возвращаясь на скамейку. – И не толкайтесь пожалуйста. - Извините, - машинально ответил капитан, человек симпатичный, но холостой о виду. Дежурный – руки по швам – доложил обстановку, поочерёдно указывая головой на Клюшкину, уже названную подозреваемой, и на застреленное чудище, именуемое им «существом неизвестного назначения». Начальство велело подать рапорт по форме, боевые патроны списать, граждан отпустить, а гражданку пригласило к себе. В кабинете Клюшкина деревянно села а предложенный стул и приготовилась к худшему. - На вас лица нет, - сказал капитан. – Выпейте чаю. Валерьянка кончилась. Сильно испугались? - Ага, - благодарно покивала Клюшкина. И стала греть руки о фарфоровую кружку, расписанную незабудками. Начальник занимался делами. Совсем некстати вспомнилась ей почему-то поляна за маминым домом и крошечные цветочки, неведомые по имени. Тогда, в детстве, они так забавно раскрывались под её рукой. Или возникали? Потом-то их не стало. А может, и не было этого. Да не всё ли равно. Постучался дежурный: - Что делать с вещдоком? - С каким? - Ну это… которое на полу, - затруднился дежурный. - Вероятно, определить, что оно такое, - сказал капитан, - показать специалисту. - Так специалист же в декрете. - Петров, вы где служите? – удивился начальник. – Кругом наука! Дежурный козырнул и в задумчивости отбыл. А чай был крепкий и душистый. - С мелиссой, - пояснил капитан. – Полегче стало? Клюшкина опять покивала головой: - Ага, можете допрашивать. Он улыбнулся: - Да Бог с вами, голубушка. Ну что вы можете рассказать? - Вообще-то ничего не могу, - честно призналась Клюшкина и тоже улыбнулась неловко, надо же, совсем отвыкла. - Идите-ка вы домой, - капитан встал. – А если захочется, навестите через недельку. Глядишь, и узнаем что-нибудь про это чудо-юдо. И впервые она рассмотрела его глаза. Господи, как же дано не видела человеческих глаз, всё как-то так, походя, орган зрения, и не больше. Заслонка для души. И некогда, да и неохота гадать, есть ли что-нибудь за этой заслонкой. Неделя прошла тихо. Зная себя, Клюшкина не дёргалась и дышать старалась ровно-ровно. Слушала радиостанцию «Орфей». Колготки все перештопала и спать ложилась без таблеток. Барабаны в голове почти замолкли, она объясняла это замечательным действием травы мелиссы, которую достала через сотрудницу и аккуратно заваривала с чаем. А однажды ночью тихо и грустно зазвучала скрипка. Кажется, Дебюсси, решила Клюшкина, раньше мечтавшая о возвышенном. И заснула. Зашла в милицию. Хоть, по-честному, сама не знала зачем. Глухонемой бомж, скучавший на скамейке, вежливо привстал. И дежурный был тот же. Она спросила начальника. - Капитан Сидоров в госпитале, - было сказано ей тоном, не исключавшим множественные осколочно-пулевые ранения, однако пресекающим дальнейшие расспросы. Клюшкина повздыхала немножко и ещё осведомилась насчёт того… происшествия. Материал отправлен на экспертизу. Как положено. Куда? А почему вы этим интересуетесь? Когда будет надо, вас вызовут. Повесткой. До свидания. В коридоре бомж поманил её пальцем. - В НИИ морфологии валяется, - шепнул он. – Тут напротив. У профессора Катай-Нижегородского. Тоже мне военная тайна – дохлая каракатица. Совсем сдурели. У профессора сидел посетитель. Молодой, но без бороды. Судя по обильной синеве щёк и акценту – из расположенного к югу независимого государства. Разговор шёл, на удивление, о каракатице. Которая вовсе не валялась, а пребывала в стеклянном сосуде, чем-то залитая. И глядеть на неё было не страшно, а немножко грустно. Вместо головы широкий венчик тонких-претонких ресничек, бессильно поникших. Внутри жемчужно просвечивали непонятные узлы-органы. - Вы поймите, - сердился профессор, - это обыкновенная коловратка, к тому же погибшая. О каком разведении может идти речь? Да ещё и в единственном экземпляре. Впрочем, они чаще размножаются путём партеногенеза. - Это как? – насторожился гость. - Н-ну, чтоб вам было понятно, без участия мужской особи. Гость оскорблённо поднял густые брови. Клюшкина покраснела. - И вообще, - профессор небрежно щёлкнул ногтем по сосуду, - этого не может быть. Размер коловраток достигает лишь миллиметра. Артефакт! И глупые слухи. - Да со мной всё это было! – взвилась Клюшкина. – Да хотите, вот сейчас, перед вами… - Внушение? – пожал плечами профессор. Но на всякий случай отодвинулся. - А в сосуде что? - Артефакт… Южный гость догнал её на лестнице. - Слушай, - жарко задышал он, - давай с тобой бизнес делать. Представляешь, реклама: «Артефакт лимитейд. Партеногенез и другие услуги». Звучит! Лангустами торговать будем. Хорошо жить будем. - Какими лангустами? - Хэ, а кто у профессора в банке скучает? Я зря приходил, да? Думаешь, народ лангуста видел? Съедят за милую душу! Трубы грянули так стремительно, что Клюшкину качнуло. Содружественный бизнесмен радостно ловил большой кепкой юркую, не крупней «ножки Буша», коловратку, прыгавшую на ступеньках. А Клюшкина уже была на улице, удивительно быстро приходя в себя: что за люди! Господи, узнать бы, где тот секретный госпиталь для раненых милиционеров. Хотя зачем… С жалостью вспомнила чудище-недомерка. Иссякаю, видать. Завести бы себе, пока не поздно, вот такого артефактика, что ли. Всё-таки веселей. Держат же крокодила в ванной. Привязываются. А если у бомжа спросить про госпиталь? Крохотная девочка у подъезда горько плакала. - Ты что? – присела перед ней Клюшкина. - Плохо мне, - поведал ребёнок. - Да что случилось, успокойся! - Ох, дайте мне поскорей чего-нибудь успокоительного! – зарыдало дитя, и слёзы-градины покатились по румяным щекам. На дне сумочки нашлась карамелька. Ловко заправив конфету за щеку, дитя прошепелявило «шпашибо, тётя» и, одарив сияющей улыбкой, ускакало в подъезд. Это тебе не артефакт, подумала Клюшкина и рассмеялась. Вечером она немножко всплакнула – тоже забытое занятие, - но не слишком горько. Да тут ещё холодильник, видимо, с работы натощак, забастовал и пережёг пробки. Клюшкина со свечкой долго искала проволоку для «жучка», ни разу не чертыхнувшись. А когда вскарабкалась на шаткий комодик, в дверь постучали. Вот некстати, пришлось слезть. - Вы? – ахнула Клюшкина, и свеча в руке вспыхнула ярко-ярко, видно, от сквозняка. – А как же… сказали… в госпитале? - На диспансеризацию вызывали, - объяснил капитан. – А там у них была выездная торговля. Купить, правда, нечего, но я подумал – вдруг вам пригодится, сейчас шёл мимо… звоню, звоню. И протянул две автоматические пробки. И три гвоздики, с головой завёрнутые в газету. Разносолов не было. Но хлеб оказался так удачно поджарен, а мамино варенье с прошлого года почти не засахарилось, и чай с мелиссой получился на славу. А уж смеху было, когда хозяйка рассказывала о профессоре и его госте! Под конец, уже в прихожей, капитан вдруг сказал: - Знаете что, Таня… И Таня вспомнила, что ведь никакая она не Клюшкина, то есть Клюшкина Т. П. конечно, но совсем не это главное. Теперь вон уж и на памятниках стали писать – Пушкин А. С., будто в ведомости домоуправской на раздачу талонов. А главное в жизни – Что она Таня и, пожалуй, даже Танечка. Капитан опять сказал: - Знаете что, Танечка… - Что? – спросила она. Капитан ещё помялся и негромко попросил: - Выходите за меня замуж. И добавил: - Пожалуйста! В голове у Тани зазвенели маленькие серебряные колокольчики. Кажется, Глюк, подумала она. А вслух сказала: - Ишь какой торопливый! И с уст её спорхнула алая роза.
1993. |
| Автор: Alexx17 | "Алессандро Барикко - итальянский писатель, музыковед, лауреат многих престижных литературных премий. Но это все не имеет значения, потому что для вас важно только одно - его роман "Шелк" НАДО ЧИТАТЬ. Это книга на один глоток, на один вздох, на один удар сердца... Конец ХIX века, маленький французский городок, успешный предприниматель, который живет тихой, размеренной жизнью и очень любит свою жену. И вдруг в его жизнь врывается необыкновенная Япония и женщина с лицом девочки, чьи прикосновения - призрачный шелк, чей голос - только столбики иероглифов, похожие на следы птичьих лапок. Эта книга - тонко вытканный из простых слов узор, который рассказывает о любви. О нежной и надежной любви к родной жене и неудержимой страсти к далекой, загадочной и неизвестной женщине за океаном. О том, какая любовь сильнее и какое чувство ярче и что останется в конце. Как шкатулка с секретом эта книга прячет истину где-то на дне, на белых полях за самой последней строкой. А, может быть, истины - нет. Потому что верность - это дивная птица в тонкой клетке, счастье - свободный, но краткий полет в небе. А любовь? Любовь - это шелк. Бесценный, тонкий и такой уязвимый..."
Мария Гудзинская о книге Алессандро Барикко "Шелк"
Прочитал...Советую и вам...Это и правда НАДО ПРОЧИТАТЬ... |
| Автор: Alexx17 | Алессандро Барикко. ШЕЛК Роман Перевод с итальянского ГЕННАДИЯ КИСЕЛЕВА
Хотя отец и рисовал для него блестящую карьеру военного, в конечном счете Эрве Жонкур стал зарабатывать себе на жизнь весьма необычным ремеслом, которому, по иронии судьбы, была не чужда особенность настолько привлекательная, что выдавала смутную женскую интонацию. Эрве Жонкур зарабатывал на жизнь тем, что покупал и продавал шелковичных червей. Шел 1861. Флобер сочинял "Саламбо", электрическое освещение значилось в догадках, а по ту сторону Океана Авраам Линкольн вел войну, конца которой он так и не увидит. Эрве Жонкуру было 32 года. Он покупал и продавал. Шелковичных червей.
Вернее сказать, Эрве Жонкур покупал и продавал шелковичных червей, когда они пребывали еще не в виде червей, а в виде крошечных желтовато-серых яичек, неподвижных и как будто мертвых. На одной ладони их помещалось видимо-невидимо. "Все равно что держать в руке целое состояние". В начале мая яйца раскрывались, высвобождая личинку. Через месяц лихорадочного поедания тутовых листьев личинка окуклялась, навивая кокон. А еще через две недели окончательно прободала его, оставляя по себе солидный прибыток, выражавшийся в тысяче метров грубой шелковой нити и кругленькой сумме французских франков. При условии, что все проходило строго по правилам и - как в случае с Эрве Жонкуром - в каком-нибудь подходящем местечке на юге Франции. Лавильдье - так звалось местечко, где жил Эрве Жонкур. Элен - так звали его жену. Детей у них не было.
Дабы избежать пагубных последствий мора, то и дело опустошавшего европейские рассадники, Эрве Жонкур все больше склонялся к покупке яиц шелкопряда за Средиземным морем, в Сирии и Египте. В этом заключалась утонченно-рискованная сторона его ремесла. Что ни год, в первых числах января он отправлялся в путь. Тысяча шестьсот миль по морю и восемьсот верст по суше. Он отбирал товар, приценивался и покупал. Затем проделывал обратный путь - восемьсот верст по суше, тысяча шестьсот миль по морю - и поспевал в Лавильдье как раз в первое воскресенье апреля. Как раз к Праздничной мессе. Еще две недели уходили на то, чтобы разложить и продать кладки яиц. Остаток года он отдыхал.
- Какая она, Африка? - спрашивали его. - Усталая. У него был большой дом прямо за окраиной городка и маленькая мастерская в центре - прямо напротив заброшенного дома Жана Бербека. Однажды Жан Бербек решил, что не будет больше говорить. И сдержал слово. Жена и двое дочерей ушли от него. Он умер. На дом никто не позарился, вот и стоял он в полном запустении. Покупая и продавая шелковичных червей, Эрве Жонкур зарабатывал достаточно, чтобы обеспечить себе и своей жене те удобства, которые в провинции принято считать роскошью. Он умело заправлял хозяйством, во всем знал меру, ну а вероятность - вполне достижимая - по-настоящему разбогатеть оставляла его совершенно равнодушным. Тем более что был он из тех, кому по душе созерцать собственную жизнь и кто не приемлет всякий соблазн участвовать в ней. Замечено, что такие люди наблюдают за своей судьбой примерно так, как большинство людей за дождливым днем.
Спроси его кто-нибудь, Эрве Жонкур ответил бы, что готов жить так вечно. Но вот, в начале шестидесятых, моровое поветрие пебрины напрочь загубило рассадники шелкопряда в Европе, пахнув к тому же за море, в Африку, а по слухам, и в Индию. Когда в 1861 Эрве Жонкур вернулся из очередного путешествия со свежей кладкой яиц, спустя два месяца почти весь выводок был охвачен недугом. Для Лавильдье, как и для множества других мест, благоденствие которых держалось на шелковом деле, тот год показался началом конца. Наука была бессильна разгадать причины мора. Весь белый свет, до крайних своих пределов, находился точно в плену у загадочного колдовства. - Весь, да не весь, - тихо молвил Бальдабью. - Да не весь, - добавил он, разбавляя на два пальца свой "Перно".
Бальдабью был тем самым человеком, который появился в здешних краях двадцать лет назад, прямиком направился к городскому голове, без объявлений вломился в его кабинет, раскинул на столе шелковый шарф цвета вечерней зари и спросил: - Как по-вашему, что это? - Женские фитюльки. - Не угадали. Фитюльки, только мужские: звонкая монета. Городской голова велел выставить его за дверь. Тогда Бальдабью построил вниз по реке прядильню, на опушке леса - ригу для разведения шелкопряда, а на развилке вивьерской дороги - церковку в честь святой Агнессы. Нанял десятка три работников, выписал из Италии диковинную деревянную машину - сплошные шестеренки да колесики - и не изрек ни слова еще семь месяцев. Потом снова нагрянул к городскому голове и выложил на стол тридцать тысяч франков крупными купюрами в аккуратных стопках. - Как, по-вашему, что это? - Звонкая монета. - Не угадали. Это доказательство того, что вы олух царя небесного. Бальдабью собрал деньги, запихнул их в суму и пошел к выходу. Городской голова остановил его: - Что от меня требуется, черт подери? - Ничего - и вы станете самым богатым городским головой в округе. Через пять лет в Лавильдье было семь прядилен; городок стал одним из главных шелководческих и ткацких центров Европы. Бальдабью не был его единственным владельцем. На этом необычном поприще он обрел последователей среди местной знати и помещиков. Каждому из них Бальдабью без утайки раскрывал секреты ремесла. Это занимало его куда больше, чем тривиальное огребание денег лопатой. Он наставлял. И щедро делился тайнами. Такой он был человек.
А еще Бальдабью был именно тем человеком, который восемь лет назад изменил жизнь Эрве Жонкура. В то время первые моровые пагубы уже начали изводить европейские плантации шелкопряда. Бальдабью хладнокровно обмозговал положение и пришел к выводу, что задачу не нужно решать, ее нужно обойти. План у него созрел, не хватало только исполнителя. Он понял, что нашел его, когда впервые увидел Эрве Жонкура. Тот проходил мимо кабачка Вердена в щегольском мундире пехотного подпоручика, горделиво вышагивая, как и подобает молодому офицеру в отпуске. Тогда ему минуло 24. Бальдабью зазвал его к себе, развернул перед ним атлас, пестревший экзотическими названиями, и сказал: - Поздравляю, мой мальчик. Ты наконец-то нашел серьезную работу. Эрве Жонкур выслушал причудливый рассказ о шелкопрядах, личинках, пирамидах и морских странствиях. А потом сказал: - Я не могу. - Что так? - Через два дня у меня кончается отпуск. Я должен вернуться в Париж. - Военная карьера? - Да. Такова воля отца. - Это не вопрос. И он повел Эрве Жонкура к отцу. - Как по-вашему, кто это? - спросил Бальдабью, без объявлений вломившись в кабинет отца. - Мой сын. - Взгляните получше. Городской голова откинулся на спинку кожаного кресла и почувствовал, что потеет. - Это мой сын Эрве Жонкур. Через два дня он вернется в Париж. Там его ждет блестящая карьера в нашей доблестной армии, если на то будет воля Господня и святой Агнессы. - Верно. Только у Господа и других дел по горло, а святая Агнесса терпеть не может военных. Через месяц Эрве Жонкур отправился в Египет. Он вышел в море на корабле под названием "Адель". В каютах витали ароматы камбуза, некий англичанин уверял, что бился при Ватерлоо, вечером третьего дня на горизонте, словно хмельные волны, блеснули дельфины, в рулетку без конца выпадало шестнадцать. Вернулся он спустя два месяца - в первое воскресенье апреля, как раз к Праздничной мессе - с двумя деревянными рундуками: проложенные ватой, в них почивали тысячи яичек шелкопряда. В придачу у него накопилась уйма всевозможных историй. Но когда они остались наедине, Бальдабью спросил его лишь об одном: - Расскажи мне о дельфинах. - О дельфинах? - О том, когда ты их видел. Таким был этот Бальдабью. Никто не знал, сколько ему лет.
- Весь, да не весь, - тихо молвил Бальдабью. - Да не весь, - добавил он, разбавляя на два пальца свой "Перно". Август, время за полночь. Обычно в этот час кабачок Вердена давно уже закрывался. Перевернутые стулья рядком выстраивались на столах. Стойка и все прочее были отчищены. Оставалось погасить свет и закрыть кабачок. Но Верден терпеливо ждал. Бальдабью продолжал говорить. Эрве Жонкур сидел напротив с потухшей сигаретой во рту и неподвижно слушал. Как и восемь лет назад, он безропотно позволял этому человеку заново выстраивать его судьбу. Тихий, отчетливый голос перемежался ритмичными глотками "Перно". Он не смолкал в течение долгих минут. А напоследок заключил: - У нас нет выбора. Если мы хотим выжить, нам нужно дотуда добраться. Молчание. Облокотившись о стойку, Верден поднял на них глаза. Бальдабью целиком отдался поискам лишнего глотка "Перно" со дна стакана. Эрве Жонкур примостил сигарету на краю стола, прежде чем сказать: - А вообще, где она, эта Япония? Бальдабью поднял палку, направив ее поверх церкви Святого Огюста. - Прямо, не сворачивая. Сказал он. - И так до самого конца света.
В те времена Япония и впрямь была на другом конце света. Два столетия остров, собранный из островов, существовал в полном отрыве от остального мира, пренебрегая всякой связью с континентом, не подпуская к себе иноземцев. Китайский берег отстоял миль на двести, но императорский указ способствовал тому, чтобы он откатился еще дальше: указом повсеместно запрещалось строительство двух- или трехмачтовых кораблей. Следуя по-своему дальновидной логике, указ не возбранял покидать родину, зато обрекал на смерть каждого, кто посмеет вернуться. Китайские, голландские и английские купцы не раз пытались прорвать эту нелепую обособленность, но им всего-навсего удавалось сплести непрочную и чреватую опасностями сеть контрабанды. В итоге они довольствовались мизерным барышом, кучей неприятностей и расхожими байками, которые травили по вечерам в каком-нибудь порту. Там, где оплошали купцы, преуспели, бряцая оружием, американцы. В июле 1853 коммодор Мэтью К. Перри вошел в бухту Иокогамы с новейшей флотилией паровых судов и предъявил японцам ультиматум, в коем "чаялась" доступность острова для иностранцев. До этого японцы отродясь не видывали, чтобы морской корабль шел против ветра. Когда семь месяцев спустя Перри вернулся за ответом на свой ультиматум, военное правительство острова пошло на подписание договора, по которому чужакам разрешался доступ в два северных порта Страны. Сверх того, им дозволялось заключать первые, весьма умеренные сделки. "Отныне море, омывающее этот остров, - объявил с некоторой помпезностью коммодор, - станет гораздо мельче".
Обо всем этом Бальдабью прекрасно знал. Знал он и о легенде, которая не сходила с языка у побывавших там странников. Легенда гласила, что на острове выделывают шелк, какого на всем белом свете не сыщешь. Выделывают добрую тысячу лет таинственным способом, достигшим чудесного совершенства. И все бы хорошо, только Бальдабью полагал, что никакая это не легенда, а самая настоящая правда. Однажды он держал в руках платок, вытканный из шелковой японской нити. Так держат в руках воздух. И когда все, казалось, пошло прахом из-за кутерьмы с пебриной и недужными червями, он разом смекнул: - Стоит себе остров. Шелкопряда на нем хоть отбавляй. И коли за двести лет на этот остров не ступила нога китайского купчишки или аглицкого страховщика, то никакой заразе туда вовек не дойти. И не просто смекнул, а известил всех местных шелкоделов, собрав их для этого в кабачке Вердена. Никто из них в жизни ни слыхивал ни о какой Японии. - Это что же нам, за отборными кладками теперь полсвета отмахать прикажешь? И куда? У них как завидят чужака, так мигом его и вздернут. - Вздергивали, - поправил Бальдабью. Шелкоделы не знали, что и думать. Кое-кто возражал: - Почему-то же никому до сих пор не пришло в голову закупать там кладки? Бальдабью мог бы для порядка и приврать, напомнив честному народу, что другого такого Бальдабью им днем с огнем не найти. Но он предпочел выложить все начистоту: - Японцы смирились с тем, что шелк придется продавать. Но не кладки яиц. Их они берегут как зеницу ока. И объявляют преступником всякого, кто осмелится вывезти кладки с острова. Шелководы из Лавильдье в большинстве своем были людьми добропорядочными. Им и в голову бы не пришло нарушать закон в собственной стране. Зато перспектива сделать это на другом конце света, похоже, устраивала их вполне.
Шел 1861. Флобер заканчивал "Саламбо", электрическое освещение значилось в числе догадок, а по ту сторону Океана Авраам Линкольн вел войну, конца которой он так и не увидит. Шелководы из Лавильдье объединились в товарищество и собрали порядочную сумму, необходимую для проведения экспедиции. Они сочли разумным доверить ее Эрве Жонкуру. Когда Бальдабью спросил его согласия, в ответ он услышал вопрос: - А вообще, где она, эта Япония? Прямо, не сворачивая. И так до самого конца света. Он двинулся в путь 6 октября. Один. На окраине Лавильдье он крепко обнял Элен и проронил: - Ты не должна ничего бояться. Она была высокой и медлительной. У нее были длинные темные волосы, которые она никогда не собирала в пучок. И чарующий голос.
Эрве Жонкур двинулся в путь, имея при себе восемьдесят тысяч франков золотом и полученные от Бальдабью имена трех людей: китайца, голландца и японца. Он пересек границу возле Меца, проехал Вюртемберг и Баварию, въехал в Австрию, поездом добрался до Вены и Будапешта, а затем напрямую до Киева. Отмахал на перекладных две тысячи верст по русской равнине, перевалил через Уральский хребет, углубился в просторы Сибири, сорок дней колесил по ней до озера Байкал, которое в тех краях называют "морем". Прошел Амур вниз по течению вдоль китайской границы до самого Океана. Дойдя до Океана, просидел в порту Сабирк одиннадцать дней, покуда корабль голландских контрабандистов не доставил его до мыса Тэрая на западном побережье Японии. Окольными путями пересек префектуры Исикава, Тояма и Ниигата, вступил в провинцию Фукусима, дошел до города Сиракава, обогнул его с восточной стороны, двое суток дожидался человека в черном, который завязал ему глаза и провел в деревню на холмах, где он заночевал, а наутро сторговал партию яиц шелкопряда у бессловесного человека, чье лицо скрывал шелковый платок. На закате он укрыл товар в своей поклаже, встал к Японии спиной и тронулся в обратный путь. Не успел Эрве Жонкур выйти за околицу, как его догнал и остановил какой-то селянин. Он что-то возбужденно затараторил и с любезной решительностью повел чужестранца назад. Эрве Жонкур не знал по-японски и потому не уяснил речи селянина. Но сообразил, что Хара Кэй хочет его видеть.
Перегородка из рисовой бумаги отъехала вбок, и Эрве Жонкур вошел. На полу, в самом дальнем углу комнаты, скрестив ноги, сидел Хара Кэй. Темная туника, никаких украшений. Единственная зримая примета власти - недвижно лежащая рядом женщина: голова покоится на его животе, глаза сомкнуты, руки упрятаны в широкое алое кимоно, полыхающее как пламя на пепельной циновке. Он медленно запускает пальцы в ее волосы, словно поглаживая шерстку задремавшего ценного зверька. Эрве Жонкур пересек комнату, подождал, пока хозяин сделает ему знак, и сел напротив. Какое-то время они молчали, глядя друг другу в глаза. Из ниоткуда возник слуга, поставил перед ними две чашки чая и снова обратился в ничто. Хара Кэй заговорил на своем языке. Его напевный голос истончался в назойливо-искусственном фальцете. Эрве Жонкур слушал. Он не отрывал глаз от глаз Хара Кэя и лишь на миг, почти непроизвольно, опустил их на женское лицо. Это было лицо девочки. Он поднял глаза. Хара Кэй прервался, взял одну из чашек, поднес ее к губам и, помедлив, произнес: - Попробуйте рассказать о себе. Он произнес это по-французски, слегка растягивая гласные, хрипловатым, искренним голосом.
Недоступнейшему из японцев, хозяину всего, что пришельцам удавалось вывезти с чужедальнего острова, попытался Эрве Жонкур рассказать, кто он такой. Он говорил на родном языке, говорил не торопясь, даже не зная наверное, способен ли Хара Кэй понять его. Словно по наитию отбросил он излишние опасения и без умолчаний и прикрас поведал всю правду. Просто и ясно. Монотонным голосом и скупыми жестами он выстраивал в общий ряд незначительные подробности и главные события, подражая гипнотическому порядку меланхолично-сухой описи уцелевших после пожара вещей. Хара Кэй слушал - черт его лица не тронул и слабый налет выразительности. Он сосредоточенно смотрел на губы Эрве Жонкура, точно это были последние строки прощального письма. В комнате царили такая тишина и неподвижность, что происшедшее вдруг, при всей своей ничтожности, показалось чем-то неимоверным. Внезапно, без малейшего движения, лежащая девушка открыла глаза. Не прерываясь, Эрве Жонкур бессознательно устремил на нее взгляд, и вот что он увидел, по-прежнему не обрывая речи: у этих глаз не было восточного разреза; и еще: они взирали на него с пронзительной остротой, как будто с самого начала неустанно следили за ним из-под век. Эрве Жонкур отвел взгляд со всей непринужденностью, на какую был способен, стараясь продолжить рассказ и не допустить излишнего перепада в голосе. Он прервался, лишь когда его взгляд упал на чашку чая, стоявшую перед ним на полу. Взял ее одной рукой, поднес к губам, отпил маленький глоток. И снова заговорил, ставя чашку на прежнее место.
Франция, хождения за море, дух шелковицы из Лавильдье, поезда на паровой тяге, голос Элен. Эрве Жонкур продолжал рассказывать о своей жизни, чего еще не делал никогда в жизни. Девушка продолжала смотреть на него; ее неистовый взгляд властно принуждал всякое его слово звучать с особой значимостью. Когда вся комната сползла в полную неподвижность, из ее кимоно совершенно неожиданно выпросталась рука и бесшумно скользнула по циновке. Эрве Жонкур видел, как это бледное пятно дотянулось до границы его зрительного поля, коснулось чашки Хара Кэя, а затем, необъяснимым образом, заскользило дальше, до следующей чашки - той самой, из которой неотвратимо пил он сам, - без колебаний взялось за нее, легонько вздело и унесло с собой. Хара Кэй ни на миг не отрывался от невозмутимого созерцания губ Эрве Жонкура. Девушка чуть-чуть приподняла голову. Впервые отвела она взгляд от Эрве Жонкура и направила его на чашку. Медленно повернула чашку, пока губы в точности не совпали с тем местом, где пил он. Прищурив глаза, сделала глоток. Отстранила чашку от губ. Спрятала руку в складках одежды. Склонила голову на живот Хара Кэя. Пристально глядя в глаза Эрве Жонкура.
Эрве Жонкур говорил еще долго. Он приумолк, лишь когда Хара Кэй отвел от него взгляд и еле заметно кивнул. Молчание. Слегка растягивая гласные, хрипловатым, искренним голосом Хара Кэй произнес по-французски: - Надумаете вернуться - приятно будет вас видеть. Впервые он улыбнулся. - Вместо яичек шелкопряда вам подсунули рыбью икру: грош ей цена. Эрве Жонкур потупился. Перед ним стояла чашка чая. Он взял ее и, вращая, начал осматривать, словно выискивал что-то на цветной каемке. Найдя, что искал, он пригубил чашку и выпил ее до дна. Затем поставил чашку перед собой и сказал: - Я знаю. Хара Кэй весело засмеялся. - Оттого-то и расплатились фальшивым золотом? - По товару и монета. Хара Кэй посерьезнел. - Вы получите то, за чем пришли, когда покинете эти места. - А вы получите ваше золото, когда я покину этот остров целым и невредимым. Вот вам мое слово. Эрве Жонкур не стал дожидаться ответа. Он поднялся, отступил назад и поклонился. Напоследок он увидел ее глаза: совершенно безмолвные, они неотрывно смотрели в его глаза.
Через шесть дней Эрве Жонкур сел в Такаоке на корабль голландских контрабандистов, доставивший его в Сабирк. Оттуда, вдоль китайской границы, он поднялся до озера Байкал, проделал четыре тысячи верст по сибирским просторам, перевалил через Уральский хребет, добрался до Киева, поездом проехал всю Европу с востока на запад и после трехмесячного путешествия прибыл во Францию. В первое воскресенье апреля - как раз к Праздничной мессе - он показался у въезда в Лавильдье. Остановился, возблагодарил Господа и вступил в город, считая шаги, чтобы у каждого шага было свое имя и чтобы уже не забыть их никогда. - Ну и какой он, конец света? - спросил у него Бальдабью. - Невидимый. В подарок жене он привез шелковую тунику, которую стеснительная Элен так ни разу и не надела. Возьмешь ее в руки - и, кажется, держишь в руках воздух.
Яичные кладки, привезенные Эрве Жонкуром из Японии, оказались вполне здоровыми, после того как их высадили на множество мелко нарезанных листьев тутового дерева. Шелк в округе Лавильдье выдался в тот год каких свет не видал: и количеством и добротностью. Решили открыть еще две прядильни, а Бальдабью соорудил клуатр возле церковки Святой Агнессы. Он почему-то вообразил его круглым и заказал проект испанскому архитектору Хуану Бенитесу, построившему немало арен для боя быков. - Да, и никакого песка: посредине мы разобьем сквер. И, если можно, у входа вместо бычьих голов - дельфиньи. - Дельфиньи, сеньор? - Ну, это рыба такая, Бенитес, улавливаешь? Эрве Жонкур подбил кое-какие счета и обнаружил, что богат. Он прикупил тридцать акров земли к югу от своих владений и все лето занимался разметкой парка для усладительных прогулок в тиши и спокойствии. Парк представлялся ему невидимым, как тот конец света. По утрам он хаживал к Вердену, где узнавал о местных новостях и просматривал газеты, доставленные из Парижа. Вечерами допоздна засиживался вместе с Элен на открытой веранде своего дома. Она читала вслух, и он чувствовал себя счастливым, думая про себя, что на всем белом свете нет голоса краше, чем ее голос. 4 сентября 1862 ему исполнилось 33 года. Жизнь струилась перед его взором как дождь: легко и безмятежно.
- Ты не должна ничего бояться. Раз уж так решил Бальдабью, Эрве Жонкур снова отправился в Японию в первый день октября. Он пересек границу возле Меца, проехал Вюртемберг и Баварию, въехал в Австрию, поездом добрался до Вены и Будапешта, а затем напрямую до Киева. Отмахал на перекладных две тысячи верст по русской равнине, перевалил через Уральский хребет, углубился в просторы Сибири, сорок дней колесил по ней до озера Байкал, которое в тех краях называют "окаянным". Прошел Амур вниз по течению вдоль китайской границы до самого Океана. Дойдя до Океана, просидел в порту Сабирк одиннадцать дней, покуда корабль голландских контрабандистов не доставил его до мыса Тэрая на западном побережье Японии. Окольными путями миновал префектуры Исикава, Тояма и Ниигата, вступил в провинцию Фукусима, дошел до города Сиракава, обогнул его с восточной стороны, двое суток дожидался человека в черном, который завязал ему глаза и провел в деревню Хара Кэя. Когда он открыл глаза, перед ним стояли двое слуг. Они взяли его вещи и довели до опушки леса. Там они указали ему на тропинку и оставили чужеземца одного. Эрве Жонкур зашагал в тени, отхваченной у дневного света наседавшими со всех сторон деревьями. Он остановился, когда зеленая завеса на обочине вдруг на мгновение приоткрылась, словно окно. Метрах в тридцати книзу виднелось озеро. На берегу, спиной к нему сидел Хара Кэй, а рядом - женщина в оранжевом платье, с распущенными по плечам волосами. Стоило Эрве Жонкуру взглянуть на нее, как она медленно повернулась, ровно на то короткое время, которого хватило, чтобы поймать его взгляд. У ее глаз не было восточного разреза; ее лицо было лицом девочки. Эрве Жонкур продолжил путь в чаще леса и, выйдя, очутился на самой кромке суши. Чуть впереди, на корточках сидел одетый в черное Хара Кэй. Сидел не двигаясь, один. Вблизи лежало сброшенное на землю оранжевое платье и пара соломенных сандалий. Эрве Жонкур подошел. Легкие покатые волны подгоняли озерную воду к берегу, будто присланные откуда-то издалека. - Мой французский друг, - вымолвил Хара Кэй, не оборачиваясь. Прошел не один час, пока они говорили и молчали, сидя друг подле друга. Затем Хара Кэй встал. Эрве Жонкур последовал за ним. Неуловимым движением, прежде чем ступить на тропинку, он выронил одну из своих перчаток рядом с оранжевым платьем, брошенным на берегу. В селение они пришли уже под вечер.
Эрве Жонкур гостил у Хара Кэя четыре дня. И жил как при дворе у короля. Все в том селении существовало ради этого человека; едва ли не каждое движение на окружных холмах свершалось, дабы охранить или ублажить его. Прочая жизнь кипела приглушенно, копошась украдкой, точно загнанный в логово зверь. Мир будто отдалился на века. В распоряжении Эрве Жонкура был дом и пятеро слуг, сопровождавших его повсюду. Ел он один, под сенью цветущего дерева небывалой красоты. Дважды в день, с особой торжественностью, подавали чай. Вечером Эрве Жонкура приводили в просторную комнату с каменным полом, где совершался обряд омовения. Три пожилые женщины - на лицах подобие восковых масок - поливали водой и обтирали его тело теплой шелковой простыней. Руки у них были узловатые, а прикосновения - легкие. Утром второго дня Эрве Жонкур наблюдал, как в селении появился белый человек. За ним катились две телеги, доверху груженные большими деревянными ящиками. Это был англичанин. Он приехал не покупать. Он приехал продавать. - Оружие, месье. А вы? - Я покупаю. Шелковичных червей. Ужинали вместе. Англичанину было что рассказать. Восемь лет мерил он версты между Европой и Японией. Эрве Жонкур долго слушал, а под конец спросил: - Не знакома ли вам молодая женщина, полагаю европейка, белая - что живет здесь? Англичанин продолжал есть с непроницаемым видом. - В Японии не бывает белых женщин. В Японии нет ни одной белой женщины. На другой день он уехал с целой подводой золота.
continied... |
| Автор: Alexx17 |
Алессандро Барикко ШЕЛК
продолжение...
...Эрве Жонкур снова увидел Хара Кэя лишь утром третьего дня. Ни с того ни с сего пятеро его слуг, как по волшебству, улетучились, и через несколько мгновений возник он сам. Человек, ради которого вековали свой век здешние жители, постоянно перемещался в неком пустом пузыре. Как будто негласный указ предписывал всему свету оставить его в покое. Они поднялись по склону холма на поляну. Небо над ней разлиновали десятки голубых большекрылых птиц. - Местные жители смотрят на птиц и по их полету угадывают будущее. Сказал Хара Кэй. - Помню, в детстве отец привел меня на такую поляну, вложил в мои руки свой лук и велел стрелять по птицам. Я выстрелил, и голубая большекрылая птица камнем упала на землю. Угадай полет твоей стрелы, если хочешь знать, что ждет тебя впереди, сказал мне отец. Птицы неторопливо парили в небе, то поднимаясь, то опускаясь, будто старательно пытались заштриховать его крыльями. Они сошли в деревню при странном свете дня, казавшегося вечером. У дома Эрве Жонкура они распрощались. Хара Кэй повернулся и не спеша направился вниз по дорожке, сбегавшей вдоль реки. Эрве Жонкур задержался на пороге, глядя ему вслед. Он подождал, пока Хара Кэй отойдет шагов на двадцать, и произнес: - Когда вы скажете мне, кто эта девушка? Хара Кэй шел не останавливаясь, мерным шагом, в котором не было и тени усталости. Кругом царила полная тишина и опустошенность. Куда бы ни направлялся этот человек, он, словно по особому предписанию, погружался в совершенное и безграничное уединение.
Утром последнего дня Эрве Жонкур вышел побродить по деревне. Мужчины на его пути отвешивали поклоны; женщины, потупив взгляд, расплывались в улыбке. Он понял, что жилище Хара Кэя где-то рядом, когда разглядел громадную вольеру, вместившую немыслимое множество всеразличных птиц: чудеса, да и только. В разговоре с ним Хара Кэй признался, что выписывал их со всех концов света. Среди птиц были и такие, что стоили поболе всего шелка, который выткали бы в Лавильдье за год. Эрве Жонкур неподвижно смотрел на это великолепное безумие. Ему вспомнилась одна книга, в которой было сказано, что восточные мужчины, воздавая должное верности своих любимых женщин, имели обыкновение дарить им не драгоценности, но редких и восхитительных птиц. Обитель Хара Кэя, казалось, утопала в озере тишины. Эрве Жонкур подошел и остановился у входа. Дверей не было вовсе, а на бумажных стенах появлялись и пропадали тени, не поднимавшие ни малейшего шума. Все это едва ли напоминало жизнь. Попытайся он выразить увиденное одним словом, это было бы слово "театр". Эрве Жонкур так и остолбенел у самого дома в ожидании неизвестно чего. За то время, что он предоставил судьбе, лишь тени и безмолвие просачивались за пределы этой необычной сцены. Эрве Жонкур повернулся и ходко пошел к собственному дому. Опустив голову, он смотрел себе под ноги, ибо это помогало ему не думать.
Вечером Эрве Жонкур собрал кладь. Потом дал препроводить себя для обряда омовения в комнату с каменным полом. Он лег, закрыл глаза и подумал о большой вольере - безрассудном залоге любви. На глаза ему положили влажное полотенце. Раньше этого никогда не делали. Он хотел было убрать полотенце, но чья-то рука овладела его рукой и остановила ее. Это не была старая рука старухи. Эрве Жонкур чувствовал, как по его телу струится вода: сначала по ногам, затем вдоль рук и по груди. Вода словно масло. А вокруг - непривычная тишина. Он ощутил лекое прикосновение шелковой вуали. И женских рук - женских, нежно обтиравших его кожу повсюду; тех самых рук и того шелка - сотканного из пустоты. Он не шевельнулся, даже когда руки взметнулись с плеч на шею, а пальцы - шелк и пальцы - дотянулись до губ, осторожно притронулись к ним, всего только раз - и растаяли. Напоследок Эрве Жонкур почувствовал, как шелковая вуаль взлетела над ним и упорхнула без следа. И была рука: она раскрыла его руку и что-то вложила в ладонь. Он долго ждал в тишине, не шелохнувшись. Затем осторожно снял влажное полотенце с глаз. В комнате почти не было света. Кругом ни души. Он встал, взял сложенную на полу тунику, надел ее, вышел из комнаты, добрел до спальни и лег на циновку. Повернув голову, он стал наблюдать за тонким дрожащим пламенем лампы. И бережно остановил Время - на все то время, что хотел. После этого уже ничего не стоило разжать ладонь и увидеть листок. Маленький. Несколько иероглифов вытянулись в столбик. Черные чернила.
Ранним утром следующего дня Эрве Жонкур пустился в обратный путь. В тайниках своей поклажи он увозил тысячи яичек шелкопряда - будущее Лавильдье, работу для сотен людей и богатство для десятка из них. Там, где дорога сворачивала влево, скрывая за холмистым очерком деревню, он остановился, не обращая внимания на пару провожатых. Спешился и постоял у обочины, глядя на домики, взбиравшиеся по склону холма. Спустя шесть дней Эрве Жонкур сел в Такаоке на корабль голландских контрабандистов, доставивший его в Сабирк. Оттуда, вдоль китайской границы, он поднялся до озера Байкал, проделал четыре тысячи верст по сибирским просторам, перевалил через Уральский хребет, добрался до Киева, поездом проехал всю Европу с востока на запад и после трехмесячного путешествия прибыл во Францию. В первое воскресенье апреля - как раз к Праздничной мессе - показался он у въезда в Лавильдье. Навстречу ему выбежала Элен, и он ощутил запах ее кожи, когда обнял жену, и услышал ее бархатный голос, когда она сказала: - Ты вернулся. Нежно. - Ты вернулся.
В Лавильдье текла размеренным чередом нехитрая, обыденная жизнь. Она омывала Эрве Жонкура сорок один день. На сорок второй он не выдержал, достал маленькую укладку из своего дорожного сундука, вынул карту Японии, открыл ее и взял припрятанный когда-то листок. Несколько иероглифов вытянулись в столбик. Черные чернила. Он сел за письменный стол и долго-долго на них смотрел. Бальдабью он застал у Вердена, за бильярдом. Бальдабью всегда играл один - против самого себя. Такие вот партии. Здоровяк против калеки, говаривал он сам. Первый удар он делал как обычно, а второй - одной рукой. В тот день, когда победит калека, прибавлял Бальдабью, я навсегда уеду из этих мест. Годами калека проигрывал. - А что, Бальдабью, нет ли у нас кого, кто знает по-японски? Калека закрутил от двух бортов с откатом. - Спроси у Эрве Жонкура - он все знает. - Я в этом ни полстолько не смыслю. - Ты же у нас японец. - А толку. Здоровяк согнулся над кием и всадил шестиочковый прямой. - Тогда остается мадам Бланш. У нее магазин тканей в Ниме. Над магазином бордель. Тоже ее. Она богачка. И японка. - Японка? А как ее сюда занесло? - Главное, у самой мадам об этом не спрашивай, если хочешь что-нибудь разузнать. А, че-ерт. Калека только что смазал четырнадцатиочковый от трех бортов.
Своей Элен Эрве Жонкур сказал, что едет в Ним по делам. И что вернется в тот же день. Он поднялся во второй этаж магазина тканей по рю Москат, 12 и спросил мадам Бланш. Ждать пришлось долго. Гостиная была обставлена по случаю праздника, начавшегося много лет назад, да так с тех пор и не кончавшегося. Все девушки были как на подбор, молоденькие и француженки. Тапер наигрывал под сурдинку мотивчики, отдававшие Россией. В конце каждого из них он запускал в волосы правую руку и приговаривал себе под нос: - Вуаля.
Эрве Жонкур ждал часа два. Затем его провели по коридору до последней двери. Он открыл ее и вошел. Мадам Бланш сидела в широком кресле у окна. На ней было легкое кимоно, совершенно белое. Крохотные ярко-голубые цветки увивали ее пальцы, словно кольца. Черные лоснящиеся волосы, безукоризненное восточное лицо. - Неужели вы и впрямь столь богаты, что вообразили, будто можете лечь со мною в постель? Эрве Жонкур застыл, сжимая шляпу в руке. - Не окажете ли вы мне одну любезность. За какую цену - неважно. Он извлек из внутреннего кармана пиджака свернутый вчетверо листок и протянул ей. - Мне нужно знать, что здесь написано. Мадам Бланш и бровью не повела. Полусомкнутые губы изготовились к улыбке. - Прошу вас, мадам. У нее не было никаких оснований выполнять его просьбу. И все же она взяла листок и, развернув, заглянула в него. Вскинула глаза на Эрве Жонкура и снова их опустила. Медленно сложила листок. Когда она подалась вперед, чтобы вернуть листок, кимоно приоткрылось у нее на груди. Эрве Жонкур успел заметить, что под ним ничего нет и что кожа у нее молодая и белоснежная. - Вернитесь - или я умру. Она произнесла это холодным тоном, глядя Эрве Жонкуру прямо в глаза и не выказав ни малейшего чувства. Вернитесь - или я умру. Эрве Жонкур убрал листок во внутренний карман пиджака. - Благодарю. Коротко поклонившись, он повернулся, подошел к двери и собрался было положить на стол пачку банкнот. - Пустое. Эрве Жонкур замялся. - Я не о деньгах. Я о той женщине. Пустое. Она не умрет. И вы это знаете. Не оборачиваясь, Эрве Жонкур положил банкноты на стол, отворил дверь и вышел.
Бальдабью говорил, что за ласками мадам Бланш иные приезжали из Парижа. Воротившись в столицу, они вдевали в петлицы фраков крохотные голубые цветки. Те самые, что она неизменно носила на пальцах, словно кольца.
Тем летом Эрве Жонкур впервые отвез жену на Ривьеру. В Ницце они поселились на две недели в гостинице, облюбованной англичанами и знаменитой своими музыкальными вечерами. Элен внушила себе, что в таком чудесном месте они сумеют зачать ребенка, которого напрасно дожидались много лет. Вместе они решили, что это будет мальчик. И что его нарекут Филиппом. В светской жизни курортного городка они участвовали весьма умеренно, зато потом, уединившись у себя в номере, вовсю потешались над разными чудаками, встреченными за день. Как-то вечером, на концерте, они познакомились с одним поляком, торговцем кожами. Он утверждал, что был в Японии. Накануне отъезда Эрве Жонкур внезапно проснулся среди ночи. Было еще совсем темно. Он встал и подошел к кровати Элен. Когда она открыла глаза, он услышал, как его голос прошептал: - Я буду любить тебя вечно.
В начале сентября шелководы Лавильдье устроили сход, чтобы порешить, как быть дальше. Правительство отрядило в Ним молодого биолога для изучения повальной болезни, приводившей в негодность личинки французского шелкопряда. Биолога звали Луи Пастер. Он работал с микроскопами, в которые можно было увидеть невидимое. Поговаривали, будто он уже добился необыкновенных результатов. Из Японии доходили слухи о предстоящей гражданской войне; ее разжигали силы, выступавшие против доступа в Страну иноземцев. В депешах французского консульства, недавно открытого в Иокогаме, рекомендовалось воздержаться от установления торговых отношений с островом - до лучших времен. Склонные к осмотрительности и чувствительные к огромным расходам, в которые выливалась каждая негласная экспедиция в Японию, многие из именитых граждан Лавильдье высказались за то, чтобы приостановить поездки Эрве Жонкура и положиться в этом году на вполне пригодные партии шелкопряда от крупных поставщиков с Ближнего Востока. Бальдабью слушал, не проронив ни слова. Под конец настал его черед. Тогда он водрузил свою бамбуковую палку на стол и обратил взгляд на сидевшего перед ним человека. И стал ждать. Эрве Жонкур знал о пастеровских изысканиях и читал сообщения, поступавшие из Японии, но говорить об этом всякий раз отказывался. Он почти всецело посвящал себя проекту будущего парка, который собирался разбить вокруг своего дома. В укромном уголке кабинета Эрве Жонкур хранил сложенный вчетверо листок с несколькими иероглифами в столбик - черные чернила. У него был солидный счет в банке, он вел покойный образ жизни и питал осознанные надежды на то, что вскоре станет отцом. Когда Бальдабью обратил на него взгляд, он лишь сказал: - Решай сам, Бальдабью.
Эрве Жонкур отправился в Японию в начале октября. Он пересек границу возле Меца, проехал Вюртемберг и Баварию, въехал в Австрию, поездом добрался до Вены и Будапешта, а затем напрямую до Киева. Отмахал на перекладных две тысячи верст по русской равнине, перевалил через Уральский хребет, углубился в просторы Сибири, сорок дней колесил по ней до озера Байкал, которое в тех краях называют "остатним". Прошел Амур вниз по течению вдоль китайской границы до самого Океана. Дойдя до Океана, просидел в порту Сабирк десять дней, покуда корабль голландских контрабандистов не доставил его до мыса Тэрая на западном побережье Японии. Возникшая перед ним Страна пребывала в беспокойном ожидании войны, которая никак не могла разразиться. Не один день он провел в пути, отбросив всегдашние предосторожности, ибо география властей и проверок точно рассеялась накануне взрыва, грозившего полностью ее перекроить. В Сиракаве он встретил человека, который должен был отвести его к Хара Кэю. За два дня они доехали верхом до окрестностей деревни. Эрве Жонкур пошел в деревню пешком, чтобы весть о его прибытии докатилась вперед него.
Эрве Жонкура проводили на край деревни, в один из последних домов, на взгорке, прямо у леса. Его дожидались пятеро слуг. Он поручил им багаж и вышел на веранду. На противоположном конце деревни виднелся дворец Хара Кэя. Немногим больше остальных домов, дворец был окружен гигантскими кедрами, хранившими его уединение. Эрве Жонкур пристально смотрел на этот чертог, словно до самого горизонта ничего больше не было. И вот он увидел, как внезапно небо над чертогом окропилось сотнями взлетевших птиц; будто исторгнутая из земли, невиданная стая разлеталась повсюду, ошеломленная и обезумевшая, щебеча и галдя, - крылатый залп, цветное облако, выпущенное в яркий свет, звонкий фейерверк испуганных звуков, бегущая музыка, полет в небеса. Эрве Жонкур улыбнулся.
Деревня засуетилась как ошалевший муравейник. Люди носились и вопили, таращась на небо и провожая взглядом птиц-беглецов. С давних пор птицы являлись гордостью их Господина, и вот теперь они обернулись летящей по небу насмешкой. Эрве Жонкур вышел из дома и не спеша направился через всю деревню, глядя вперед с беспредельным спокойствием. Казалось, никто его не замечает, и он, казалось, не замечает ничего. Под ногами у него бежала золотая нить, пронизавшая уток ковра, вытканного безумцем. Он одолел стянувший реку мост, спустился к исполинским кедрам, вошел в их тень и вышел из тени. Прямо перед собой он увидал огромную вольеру: створки распахнуты настежь, внутри - пусто. А напротив вольеры - женщину. Не глядя по сторонам, Эрве Жонкур все так же медленно прошел дальше и остановился, лишь когда подступил к ней совсем близко. У ее глаз не было восточного разреза; ее лицо было лицом девочки. Эрве Жонкур шагнул ей навстречу, протянул руку и раскрыл ладонь. На ладони покоился сложенный вчетверо листок. Она скользнула по нему взглядом, и каждый уголок ее лица распустился в улыбку. Затем вложила свою ладонь в ладонь Эрве Жонкура, нежно стиснула ее, на миг помедлила и убрала руку, сжимая в пальцах обошедший полсвета листок. Не успела она затаить его в складках платья, как раздался голос Хара Кэя. - Добро пожаловать, мой французский друг. Хара Кэй стоял в нескольких шагах от них. Темное кимоно, черные волосы идеально собраны на затылке. Он подошел. И перевел взгляд на вольеру, осмотрев одну за другой раскрытые створки. - Они вернутся. Ведь это так трудно - устоять перед искушением вернуться, не правда ли? Эрве Жонкур не ответил. Хара Кэй заглянул ему в глаза и вкрадчиво произнес: - Пойдемте. Эрве Жонкур последовал за ним. Пройдя немного, он обернулся к девушке и слегка поклонился. - Надеюсь скоро увидеть вас. Хара Кэй шел не останавливаясь. - Она не знает вашего языка. Сказал он. - Пойдемте.
Вечером Хара Кэй пригласил Эрве Жонкура к себе. В доме уже собрались несколько селян. Женщины были одеты с особым изяществом: густо набеленные лица полыхали огненными румянами. Пили саке. Из длинных деревянных трубок курили едкий табак с дурманящим запахом. В какой-то момент появились шуты и человек, забавлявший гостей тем, что искусно подражал голосам людей и животных. Три старухи играли на струнных инструментах и непрестанно улыбались. Хара Кэй сидел на почетном месте в темном облачении и с босыми ногами. Рядом, в сияющем шелковом платье - женщина с лицом девочки. Эрве Жонкура усадили на другом конце комнаты. Овеянный приторным ароматом назойливых женщин, он растерянно улыбался мужчинам: те наперебой потчевали его невесть какими баснями, понять которые он был не в состоянии. Стократно он искал ее глаза, и стократно она находила его. То был особый грустный танец, сокровенный и бессильный. Эрве Жонкур кружился в нем до поздней ночи, затем встал, пробормотал по-французски извинения, кое-как отделался от увязавшейся за ним женщины и, пробившись сквозь клубы дыма и скопище тарабаривших говорунов, двинулся к выходу. У порога он в последний раз взглянул на нее. Она не сводила с него безмолвных глаз, отдаленных на столетия. Эрве Жонкур брел по деревне, вдыхая свежий ночной воздух и плутая в проулках, взбиравшихся по склону холма. Подойдя к своему дому, он увидел зажженный фонарь, трепетавший за бумажной перегородкой. Он вошел и обнаружил стоявших перед ним двух женщин. Совсем юную девушку восточной наружности, одетую в простое белое кимоно. И ее. В глазах играет лихорадочное веселье. Не дав ему опомниться, она взяла его руку, поднесла ее к своему лицу, легонько коснулась губами, а затем, сильно стиснув, опустила в ладони застывшей рядом девушки и на мгновение придержала, не позволив ей вырваться. Потом она убрала свою руку, отступила на два шага, схватила фонарь, мельком заглянула Эрве Жонкуру в глаза и выбежала. Фонарь был оранжевым. Крохотный бегущий светлячок, он пропал в ночи.
Эрве Жонкур прежде никогда не видел эту девушку; сказать по правде, он не увидел ее и той ночью. В непроглядной комнате он ощутил красоту ее тела, познал ее руки и уста. Он ласкал ее целую вечность, как не ласкал ни разу в жизни, отдавшись на произвол непривычной медлительности. В темноте ничего не стоило любить ее и не любить ее. Незадолго до рассвета девушка встала, набросила белое кимоно и вышла.
Наутро перед домом Эрве Жонкура поджидал человек Хара Кэя. При нем было пятнадцать листов тутовой коры, сплошь усеянной мельчайшими яичками цвета слоновой кости. Эрве Жонкур тщательно осмотрел каждый лист, сговорился в цене и заплатил сусальным золотом. На прощанье он дал понять человеку, что хочет повидаться с Хара Кэем. В ответ человек замотал головой. Жестами он сообщил Эрве Жонкуру, что Хара Кэй покинул деревню на заре, вместе со свитой, и что никто не знает, когда он вернется. Эрве Жонкур бросился через всю деревню к жилищу Хара Кэя. Там были одни слуги. На любой вопрос они только качали головами. Дом выглядел опустевшим. И сколько ни всматривался Эрве Жонкур, даже в самых незначительных мелочах он не увидел и намека на оставленное для него послание. По пути в деревню он проходил мимо огромной вольеры. Створки снова были на запоре. Внутри, отгороженные от неба, порхали сотни птиц.
Еще два дня Эрве Жонкур ждал хоть какого-нибудь знака. Затем тронулся в путь. Примерно в получасе езды от деревни дорога вывела его к лесу, из которого доносился необыкновенный серебристый перезвон. Сквозь густую листву проступали сотни темных пятнышек обосновавшейся на отдых стаи птиц. Ничего не говоря своим проводникам, Эрве Жонкур осадил коня, достал из-за пояса револьвер и дал в воздух шесть выстрелов. Смятенная стая взмыла в небо, подобно облаку дыма, выпущенному пожаром. Облако было таким большим, что виднелось спустя несколько дней пути. Оно чернело в небе уже без всякой на то причины. Если не считать его полнейшей растерянности.
Через шесть дней Эрве Жонкур сел в Такаоке на корабль голландских контрабандистов, доставивший его в Сабирк. Оттуда, вдоль китайской границы, он поднялся до озера Байкал, проделал четыре тысячи верст по сибирским просторам, перевалил через Уральский хребет, добрался до Киева, поездом проехал всю Европу с востока на запад и после трехмесячного путешествия прибыл во Францию. В первое воскресенье апреля - как раз к Праздничной мессе - он показался у въезда в Лавильдье. Остановил экипаж и какое-то время просидел без движения, с опущенными занавесками. Потом вышел и медленно потащился вперед под грузом беспредельной усталости. Бальдабью спросил у него, видел ли он войну. - Видел, да не ту, что ждал, - прозвучало в ответ. Вечером он лег в постель Элен и ласкал ее с таким нетерпением, что она испугалась и не могла сдержать слез. Когда он заметил их, она улыбнулась через силу. - Просто... я так счастлива, - сказала она тихо.
Эрве Жонкур передал яичную кладку шелководам Лавильдье. После этого он несколько дней кряду не показывался в городке, презрев даже ритуальный променад к Вердену. В первых числах мая, ко всеобщему недоумению, он купил заброшенный дом Жана Бербека, того самого, что когда-то умолк и не заговорил уже до самой смерти. Все решили, что Эрве Жонкур надумал сделать из дома новую лабораторию. А он и мебель выносить не стал. Только наведывался туда время от времени и подолгу оставался один в этих комнатах. Неизвестно зачем. Однажды он привел в дом Бальдабью. - А ты не знаешь, почему Жан Бербек перестал говорить? - спросил у него Эрве Жонкур. - Об этом и о многом другом он так ничего и не сказал. Спустя годы на стенах по-прежнему висели картины, а в сушилке у раковины - старые кастрюли. Невеселая картина: будь его воля, Бальдабью охотно бы ретировался. Но Эрве Жонкур как зачарованный пялился на покрытые плесенью мертвые стены. Он явно там что-то выискивал. - Видно, жизнь иногда поворачивается к тебе таким боком, что и сказать-то больше нечего. Сказал он. - Совсем нечего. Бальдабью не особо тяготел к серьезным разговорам. Он молчаливо разглядывал кровать Жана Барбека. - В этакой берлоге у кого хочешь язык отнимется. Долгое время Эрве Жонкур продолжал вести затворнический образ жизни. Он редко показывался на людях и целыми днями работал над проектом парка, который рано или поздно разобьет вокруг дома. Он покрывал лист за листом странными рисунками, похожими на машины. Как-то под вечер Элен спросила у него: - Что это? - Это вольера. - Вольера? - Да. - А для чего она? Эрве Жонкур не отрывал взгляда от рисунков. - Ты запустишь в нее птиц, сколько сможешь, а когда в один прекрасный день почувствуешь себя счастливой, откроешь вольеру - и будешь смотреть, как они улетают.
В конце июля Эрве Жонкур поехал с женой в Ниццу. Они поселились в маленьком домике на берегу моря. Так захотела Элен. Она не сомневалась, что покой уединенного места развеет хандру, как видно овладевшую мужем. Однако ей хватило проницательности, чтобы выдать это за свою невольную причуду, подарив любимому сладостную возможность простить ее. Три недели, проведенные ими вместе, были наполнены простым, неуязвимым счастьем. Когда спадала жара, они нанимали дрожки и забавы ради колесили по соседним деревушкам, притаившимся на окрестных холмах, откуда море казалось разноцветным картонным задником. Временами они выбирались в город - на концерт или светский раут. Как-то раз приняли приглашение от одного итальянского барона, устроившего по случаю своего шестидесятилетия званый вечер в "Отель Сюис". За десертом Эрве Жонкур нечаянно поднял глаза на Элен. Она сидела напротив, рядом с обольстительным английским джентльменом: в петлице его фрака красовалась гирлянда из крохотных голубых цветков. Эрве Жонкур увидел, как он склонился к Элен и что-то шепчет ей на ухо. Элен залилась упоительным смехом, коснувшись кончиками волос плеча английского джентльмена. В этом движении не было ни капли замешательства, но лишь обескураживающая точность. Эрве Жонкур опустил взгляд на тарелку. Он не мог не подметить, что его рука, зажавшая серебряную десертную ложку, неоспоримо дрожит. Погодя, в фюмуаре, шатаясь от чрезмерной дозы крепких напитков, Эрве Жонкур подошел к незнакомому господину. Тот сидел в одиночестве за столом, осоловело вылупив глаза. Эрве Жонкур нагнулся к нему и произнес с расстановкой: - Должен сообщить вам, сударь, одно весьма важное известие. Мы все отвратительны. Мы все на редкость отвратительны. Господин был родом из Дрездена. Он торговал телятиной и плохо понимал по-французски. Господин разразился оглушительным смехом и закивал головой. Казалось, он уже никогда не остановится. Эрве Жонкур и Элен пробыли на Ривьере до начала сентября. Им жаль было покидать маленький домик на берегу моря, ведь в его стенах они почувствовали легкое дыхание любви.
Бальдабью явился к Эрве Жонкуру спозаранку. Они уселись в тени портика. - Парк-то не сказать чтобы ах. - Я к нему еще не приступал, Бальдабью. - Ах. Бальдабью никогда не курил по утрам. Он вынул трубку, набил ее табаком и раскурил. - Пообщался я с этим Пастером. Дельный малый. Он мне все показал. Он знает, как отличать больные яички от здоровых. Правда, еще не умеет их лечить. Зато может отбирать здоровые. И говорит, что где-то треть нашего выводка вполне здорова. Пауза. - Слыхал - в Японии-то война. На этот раз без осечки. Англичане снабжают оружием правительство, голландцы - восставших. Похоже, они сговорились. Пускай, мол, те хорошенько выложатся, а уж мы потом приберем все к рукам и поделим между собой. Французское консульство знай себе приглядывается. Они только и делают, что приглядываются. Эти умники разве депеши горазды строчить про всякие там смертоубийства да про иностранцев, заколотых, как бараны. Пауза. - Кофе еще найдется? Эрве Жонкур налил ему кофе. Пауза. - Те двое итальянцев, Феррери и еще один, что прошлым годом подались в Китай... вернулись с отборным товаром, кладка - пятнадцать тысяч унций. В Болле уже взяли партию: говорят, хоть куда. Через месяц снова едут... Предложили нам хорошую сделку, по божеским ценам, одиннадцать франков за унцию, полная страховка. Люди верные, за плечами у них - надежные помощники, пол-Европы товаром оделяют. Верные люди, говорю тебе. Пауза. - Не знаю. Авось выдюжим. Вот и своя кладка у нас имеется, и Пастер не зря корпит, и у тех итальянцев, глядишь, чего прикупим... Выдюжим. Народ говорит, что посылать тебя снова - полное неразумие... никаких денег не хватит... а главное, уж очень боязно, и тут они правы, раньше было по-другому, а нынче... нынче оттуда ног не унесешь. Пауза. - Короче, они не хотят остаться без кладки, а я - без тебя. Какое-то время Эрве Жонкур сидел, глядя на несуществующий парк. Затем сделал то, чего не делал никогда. - Я поеду в Японию, Бальдабью. Сказал он. - Я куплю эту кладку. Если понадобится - на свои деньги. А ты решай: вам я ее продам или кому еще. Такого Бальдабью не ожидал. Все равно как если бы выиграл калека, вогнав последний шар от четырех бортов по неописуемой кривой.
Бальдабью объявил шелководам Лавильдье, что Пастер не заслуживает доверия, что те двое итальяшек уже облапошили пол-Европы, что война в Японии кончится к зиме и что святая Агнесса спросила его во сне, а не сборище ли они бздунов. Одной Элен он не смог соврать. - Ему и вправду надо ехать? - Нет. - Тогда зачем все это? - Я не в силах его остановить. Если он так хочет туда, я могу только дать ему лишний повод вернуться. Скрепя сердце шелководы Лавильдье внесли деньги на экспедицию. Эрве Жонкур стал снаряжаться в путь и в первых числах октября был готов к отъезду. Элен, как и в прежние годы, помогала мужу, ни о чем его не спрашивая, утаив свои тревоги. Лишь в последний вечер, задув лампу, она нашла в себе силы сказать: - Обещай, что вернешься. Твердым голосом, без всякой нежности. - Обещай, что вернешься. В темноте Эрве Жонкур ответил: - Обещаю.
continied... |
| Автор: Alexx17 |
Алессандро Барикко ШЕЛК
продолжение...
10 октября 1864 Эрве Жонкур отправился в свое четвертое путешествие в Японию. Он пересек границу возле Меца, проехал Вюртемберг и Баварию, въехал в Австрию, поездом добрался до Вены и Будапешта, а затем напрямую до Киева. Отмахал на перекладных две тысячи верст по русской равнине, перевалил через Уральский хребет, углубился в просторы Сибири, сорок дней колесил по ней до озера Байкал, которое в тех краях называют "святым". Прошел Амур вниз по течению вдоль китайской границы до самого Океана. Дойдя до Океана, просидел в порту Сабирк восемь дней, покуда корабль голландских контрабандистов не доставил его до мыса Тэрая на западном побережье Японии. Окольными дорогами проскакал префектуры Исикава, Тояма, Ниигата и вступил в провинцию Фукусима. В Сиракаве он обнаружил полуразрушенный город и гарнизон правительственных войск, окопавшийся в руинах. Он обогнул город с восточной стороны и пять дней напрасно дожидался посланника Хара Кэя. На рассвете шестого дня он выехал в сторону северных холмов. Он продвигался по грубым картам и обрывочным воспоминаниям. После многодневных блужданий он вышел к знакомой реке, а там - к лесу и дороге. Дорога привела его в деревню Хара Кэя. Здесь выгорело все: дома, деревья - все. Не осталось совсем ничего. Ни одной живой души. Эрве Жонкур окаменело смотрел на эту гигантскую погасшую жаровню. Позади у него был путь длиною в восемь тысяч верст. А впереди - пустота. Он вдруг увидел то, что считал невидимым. Конец света.
Эрве Жонкур еще долго оставался в разоренной деревне. Он никак не мог заставить себя уйти, хотя понимал, что каждый час, проведенный там, грозил обернуться катастрофой для него и для всего Лавильдье. Он не добыл яичек шелкопряда, а если и добудет - в запасе у него не больше двух месяцев: за этот срок он должен проехать полсвета, до того как они раскроются в пути, превратившись в массу бесплодных личинок. Опоздай он хоть на день - и крах неизбежен. Все это он прекрасно понимал, но уйти не мог. Так продолжал он сидеть, пока не случилось нечто удивительное и необъяснимое: из пустоты совершенно неожиданно возник мальчик. Одетый в лохмотья, он двигался медленно, с испугом поглядывая на пришельца. Эрве Жонкур не шелохнулся. Мальчик подступил ближе и остановился. Они смотрели друг на друга; их разделяло несколько шагов. Наконец мальчик извлек из-под лохмотьев какой-то предмет, дрожа от страха, подошел к Эрве Жонкуру и протянул ему предмет. Перчатка. Мысленным взором Эрве Жонкур увидел берег озера, сброшенное на землю оранжевое платье и легкие волны: присланные откуда-то издалека, они подгоняли озерную воду к берегу. Он взял перчатку и улыбнулся мальчику. - Это я - француз... за шелком... француз, понимаешь?.. Это я. Мальчик перестал дрожать. - Француз... В глазах у мальчика блеснули слезы, но он засмеялся. И затарахтел, срываясь на крик. И сорвался с места, жестами призывая Эрве Жонкура следовать за ним. Он скрылся на тропинке, уходившей в лес по направлению к горам. Эрве Жонкур не сдвинулся с места. Он только вертел в руках перчатку - единственный предмет, доставшийся ему от сгинувшего мира. Он понимал, что уже слишком поздно. И что у него нет выбора. Он встал. Не спеша подошел к лошади. Вскочил в седло. И проделал то, чего и сам не ожидал. Он сдавил пятками бока животного. И поскакал. К лесу, следом за мальчиком, по ту сторону конца света.
Несколько дней они держали путь на север, по горам. Эрве Жонкур не различал дороги: он покорно следовал за своим провожатым и ни о чем его не спрашивал. Так они набрели на две деревни. Завидев пришлых, обитатели прятались в домах, женщины разбегались кто куда. Мальчишка, дико веселясь, выкрикивал им вдогонку какую-то абракадабру на своем наречии. Ему было не больше четырнадцати. Он без устали дул в маленькую бамбуковую свирель, извлекая из нее всевозможные птичьи трели. Вид у него был такой, будто он занят наиглавнейшим делом своей жизни. На пятый день они достигли вершины холма. Мальчик указал на точку впереди себя: за ней дорога устремлялась вниз. Эрве Жонкур взял бинокль. Увиденное им напоминало некое шествие, состоявшее из вооруженных людей, женщин и детей, повозок и животных. Целая деревня пришла в движение. Эрве Жонкур распознал Хара Кэя на коне, облаченного в темное. За ним покачивался паланкин, занавешенный с четырех сторон пестрой тканью.
Мальчик соскочил с лошади, что-то проверещал напоследок и был таков. Перед тем как скрыться за деревьями, он обернулся и на мгновение замер, пытаясь выразить жестом, что путешествие было прекрасным. - Путешествие было прекрасным! - крикнул ему Эрве Жонкур. Весь день Эрве Жонкур следил за караваном издалека. Когда караван встал на ночлег, он продолжал ехать, не сворачивая с дороги, пока навстречу ему не вышли двое воинов. Они взяли его лошадь и поклажу и отвели Эрве Жонкура в шатер. Он долго ждал. Наконец появился Хара Кэй. Никакого знака приветствия. Он даже не сел. - Как вы здесь очутились, француз? Эрве Жонкур не ответил. - Я спрашиваю, кто вас привел? Молчание. - Здесь для вас ничего нет. Только война. И это не ваша война. Уходите. Эрве Жонкур достал кожаный кошель, открыл его и вытряхнул содержимое на землю. Сусальное золото. - Война - дорогая игра. Я нужен вам. Вы нужны мне. Хара Кэй и не взглянул на золотые чешуйки, разметавшиеся по земле. Он повернулся и вышел.
Эрве Жонкур провел ночь на краю лагеря. С ним никто не заговаривал. Никто его словно и не замечал. Люди спали на земле вокруг костров. Всего было два шатра. У одного из них Эрве Жонкур подметил пустой паланкин: с четырех углов свисали небольшие клетки с птицами. К решеткам клеток привязаны маленькие золотые колокольчики. Они легонько позванивали от дуновения ночного ветерка.
Проснувшись, он увидел, что вся деревня собиралась выступать. Шатры уже сняли. Открытый паланкин стоял на прежнем месте. Люди молча садились в повозки. Он встал и долго озирался по сторонам: но лишь глаза с восточным разрезом встречались с его глазами и тотчас склоняли взгляд. Он видел вооруженных мужчин и видел детей, которые даже не плакали. Он видел немые лица, какие бывают у гонимых людей. И дерево на обочине. А на суку - повешенного мальчугана. Того, что привел его сюда. Эрве Жонкур подошел к мальчику и остановился как вкопанный, устремив на него отрешенный взгляд. Немного погодя он распутал обмотанную вокруг ствола веревку, подхватил тело мальчика, уложил его на землю и опустился перед ним на колени. Он не мог оторвать глаз от этого лица. И не заметил, как деревня тронулась в путь. Он только слышал казавшийся далеким шум каравана, который протянулся совсем рядом - по дороге, уходившей чуть в гору. Он не поднял глаз, даже когда поблизости прозвучал голос Хара Кэя: - Япония - древняя страна. И законы ее тоже древние. По этим законам двенадцать преступлений караются смертью. Одно из них - доставить любовное послание от своей госпожи. Эрве Жонкур не отводил взгляда от убитого мальчика. - У него не было любовных посланий. - Он сам был любовным посланием. Эрве Жонкур догадался, что к его затылку приставили какой-то предмет, пригнув ему голову к земле. - Это ружье, француз. Не поднимайте голову, прошу вас. Эрве Жонкур не сразу понял. Но вот, сквозь смутный гул обращенного в бегство каравана, до слуха его долетел золотистый перезвон тысячи маленьких колокольчиков; звук близился, подступая к нему шаг за шагом, и хоть перед глазами у него была только серая земля, он представил себе, как паланкин качается, подобно маятнику, словно и впрямь видел, как, взбираясь по дороге, он мало-помалу приближался, медленно, но неумолимо, влекомый звуком, который становился все сильнее, невыносимо сильным, и надвигался все ближе, так близко, что можно было его коснуться; позолоченное журчание струилось уже напротив, как раз напротив него - в это мгновение - эта женщина - напротив него. Эрве Жонкур поднял голову. Восхитительные ткани, дивные шелка опоясали паланкин. Тысячецветье оранжево-бело-охряно-серебряного. Ни щелочки в волшебном гнезде, только шелестящее колыхание цветов, разлитых в воздухе, - непроницаемых, невесомых, невесомее пустоты. Эрве Жонкур не услышал взрыва, разносящего в клочья его жизнь. Он уловил тающий вдали звон, почувствовал, как от затылка отвели ружейный ствол, и разобрал голос Хара Кэя: - Уходите, француз. И больше не возвращайтесь.
Только тишина на дороге. Тело мальчика на земле. На коленях стоит человек. Покуда брезжит дневной свет.
Эрве Жонкур добирался до Иокогамы семнадцать дней. Он дал взятку японскому чиновнику и заполучил шестнадцать кладок яиц шелкопряда, привезенных с юга острова. Эрве Жонкур обернул их шелковой тканью и запломбировал в четырех круглых деревянных коробах. Подыскал суденышко, уходившее на континент, и в первых числах марта сошел на русском берегу. Он двинулся северным путем, чтобы замедлить вызревание яичек и растянуть время, оставшееся до их раскрытия. С вынужденными остановками он проделал четыре тысячи верст по Сибири, перевалил через Урал и прибыл в Санкт-Петербург. Расплатившись золотом, он закупил сотни пудов льда и погрузил его вместе с кладкой яиц в трюм торгового судна, взявшего курс на Гамбург. Плавание заняло шесть дней. Выгрузив четыре круглых деревянных короба, он сел на поезд южного направления. Через одиннадцать часов пути, выехав из местечка Геберфельд, поезд остановился для заправки водой. Эрве Жонкур посмотрел вокруг. По-настоящему летнее солнце припекало пшеничные поля и все что ни есть на белом свете. Напротив Эрве Жонкура сидел русский коммерсант. Скинув ботинки, он обмахивался последней страницей газеты, набранной по-немецки. Эрве Жонкур взглянул на него повнимательнее. Он заметил на его рубашке мокрые пятна, а на лбу и шее - капли пота. Русский что-то сказал сквозь смех. Эрве Жонкур улыбнулся в ответ, встал, ухватил чемоданы и сошел с поезда. Вернулся в конец состава к товарному вагону, в котором везли мясо и рыбу, переложенные льдом. Вода лилась из вагона, как из таза, продырявленного сотней пуль. Он открыл вагон, залез внутрь, взял один за другим круглые деревянные короба, вытащил их и разложил на земле у самых рельсов. Закрыл вагон и стал ждать. Когда поезд был готов к отправлению, ему крикнули, чтобы он не мешкал и садился. Он помотал головой и махнул на прощанье рукой. На его глазах поезд уходил все дальше и дальше и вскоре скрылся из виду. Он подождал, пока утихнет всякий шум. Затем склонился к одному из деревянных коробов, сорвал с него пломбы и вскрыл. То же самое он проделал с тремя другими коробами. Медленно и аккуратно. Миллионы личинок. Мертвых. Было 6 мая 1865.
Эрве Жонкур приехал в Лавильдье спустя девять дней. Его жена Элен издали заприметила экипаж, кативший по аллее поместья. Она сказала себе, что не должна плакать и не должна убегать. Она спустилась к парадному входу, распахнула дверь и встала на пороге. Когда Эрве Жонкур подошел к ней, она улыбнулась. Обняв ее, он тихо сказал: - Останься со мной, прошу тебя. Они не смыкали глаз дотемна, сидя на лужайке перед домом, друг возле друга. Элен говорила о Лавильдье, о долгих месяцах ожидания, об ужасе последних дней. - Ты умер. Сказала она. - И на свете не осталось ничего хорошего.
Шелководы Лавильдье взирали на тутовые деревья, покрытые листьями, и видели свою погибель. Бальдабью раздобыл несколько новых кладок, но личинки умирали, едва показавшись на свет. Шелка-сырца, полученного от немногих сохранившихся партий, еле хватало, чтобы загрузить две из семи местных прядилен. - У тебя есть какие-нибудь мысли? - спросил Бальдабью. - Одна, - ответил Эрве Жонкур. На следующий день он объявил, что за лето собирается разбить вокруг своего дома парк. И подрядил с десяток-другой односельчан. Те обезлесили холм и сгладили косогор, полого спускавшийся теперь в низину. Стараниями работников деревья и живая изгородь расчертили землю легкими, прозрачными лабиринтами. Разнообразные цветы сплелись в причудливые куртины, открывшиеся словно шутейные прогалины среди березовых рощиц. Вода, позаимствованная из ближней речки, сбегала фонтанным каскадом к западным пределам парка, собираясь в небольшом пруду, обрамленном полянками. В южном урочище, меж лимонных и оливковых деревьев, из дерева и железа соорудили огромную вольеру, казалось повисшую в воздухе, точно вышивка. Работали четыре месяца. В конце сентября парк был готов. Никто еще в Лавильдье не видывал ничего подобного. Поговаривали, будто Эрве Жонкур пустил на это все свое состояние. Будто вернулся он из Японии каким-то не таким, не иначе как больным. Будто запродал кладку итальяшкам и набил мошну золотом, упрятанным в парижских банках. А еще поговаривали, что, ежели б не его парк, - окочурились бы все с голоду в тот год. И что был он шельмой. И что был он праведником. А еще - будто нашло на него что-то, ровно напасть какая.
О своем хождении Эрве Жонкур сказал только то, что яички шелкопряда раскрылись неподалеку от Кельна, в местечке под названием Геберфельд. Спустя четыре месяца и тринадцать дней после его возвращения Бальдабью сел перед ним на берегу пруда у западных пределов парка и сказал: - Рано или поздно ты все равно расскажешь кому-нибудь правду. Сказал негромко, через силу, ибо сроду не верил, что от правды бывает хоть какая-то польза. Эрве Жонкур устремил взгляд в сторону парка. Стояла осень: повсюду разливался обманчивый свет. - Когда я увидел Хара Кэя в первый раз, на нем была темная туника. Он неподвижно сидел в углу комнаты, скрестив ноги. Рядом лежала женщина. Она положила голову ему на живот. У ее глаз не было восточного разреза. Ее лицо было лицом девочки. Бальдабью слушал молча. До последнего слова. До поезда в Геберфельд. Он ни о чем не думал. Он слушал. Его больно кольнуло, когда под конец Эрве Жонкур тихо сказал: - Я даже ни разу не слышал ее голоса. И, чуть помедлив: - Какая-то странная боль. Тихо. - Так умирают от тоски по тому, чего не испытают никогда. Они шли по парку вместе. Бальдабью произнес всего одну фразу: - Откуда, черт подери, этот собачий холод? Всего одну. Как-то вдруг.
В начале нового, 1866 года Япония официально разрешила вывоз яичек шелковичного червя. В следующем десятилетии одна лишь Франция будет ввозить японского шелкопряда на десять миллионов франков. С 1869, после открытия Суэцкого канала, весь путь до Японии займет не больше двадцати дней. И чуть меньше двадцати дней - возвращение. Искусственный шелк будет запатентован в 1884 французом по фамилии Шардонне.
Спустя полгода после его возвращения в Лавильдье Эрве Жонкуру пришел по почте конверт горчичного цвета. Вскрыв конверт, он обнаружил семь листов бумаги, испещренных мелким геометрическим почерком: черные чернила, японские иероглифы. Кроме имени и адреса на конверте, в послании ни слова латинскими буквами. Судя по штемпелю, письмо отправили из Остенде. Эрве Жонкур долго листал и разглядывал его. Письмо напоминало каталог миниатюрных птичьих лапок, составленный с невменяемым усердием. Хотя и это были какие-то значки. Иначе говоря, прах сгоревшего голоса.
Несколько дней подряд Эрве Жонкур носил письмо с собой: сложенное пополам, оно покоилось у него в кармане. Переодеваясь, он всякий раз перекладывал и письмо. Но ни разу не заглянул в него. Он лишь ощупывал его рукой, пока говорил с испольщиком или ждал ужина, сидя на веранде. Как-то вечером он стал рассматривать письмо против лампы. У себя в кабинете. На просвет следы птичек-малюток сливались в глухой, неразборчивый клекот. Они гомонили либо о чем-то пустяковом, либо, напротив, способном перевернуть всю жизнь. Выведать истину было невозможно, и это нравилось Эрве Жонкуру. Появилась Элен. Он положил письмо на стол. Она подошла поцеловать мужа, как делала каждый вечер, прежде чем удалиться в свою комнату. Когда Элен нагнулась, ночная рубашка слегка разошлась у нее на груди. Эрве Жонкур увидел, что под рубашкой у нее ничего не было и что ее груди были маленькими и белоснежными, как у девочки. Четыре следующих дня он жил привычной жизнью, нисколько не меняя благоразумно заведенного распорядка. Утром пятого дня он надел элегантную серую тройку и поехал в Ним. Сказал, что вернется засветло. |
| Автор: Alexx17 |
Алессандро Барикко ШЕЛК
продолжение...
На рю Москат, 12 все было в точности как три года назад. Праздник так и не кончался. Девушки были как на подбор, молоденькие и француженки. Тапер наигрывал под сурдинку мотивчики, отдававшие Россией. То ли от старости, то ли от какого подлого недуга, но он уже не запускал в волосы правую руку и не приговаривал себе под нос: - Вуаля. Он только немо замирал, растерянно глядя на свои руки.
Мадам Бланш приняла его без единого слова. Черные лоснящиеся волосы, безукоризненное восточное лицо. На пальцах, словно кольца, крохотные ярко-голубые цветки. Длинное белое платье, полупрозрачное. Босые ноги. Эрве Жонкур сел напротив. Вынул из кармана письмо. - Вы меня помните? Мадам Бланш неуловимо кивнула. - Вы снова мне нужны. Он протянул ей письмо. У нее не было ни малейших оснований брать это письмо, но она взяла его и раскрыла. Проглядев один за другим все семь листов, она подняла глаза на Эрве Жонкура. - Я не люблю этот язык, месье. Я хочу его забыть. Я хочу забыть эту землю, и мою жизнь на этой земле, и все остальное. Эрве Жонкур сидел неподвижно - руки вцепились в ручки кресла. - Я прочту вам это письмо. Прочту. Денег я с вас не возьму. А возьму только слово: не возвращаться сюда больше и не просить меня об этом. - Слово, мадам. Она пристально взглянула на него. Затем опустила взгляд на первую страницу письма: рисовая бумага, черные чернила. - Мой любимый, мой господин, произнесла она, - ничего не бойся, не двигайся и молчи, нас никто не увидит.
Оставайся так, я хочу смотреть на тебя, я столько на тебя смотрела, но ты был не моим, сейчас ты мой, не подходи, прошу тебя, побудь как есть, впереди у нас целая ночь, и я хочу смотреть на тебя, я еще не видела тебя таким, твое тело - мое, твоя кожа, закрой глаза и ласкай себя, прошу, - мадам Бланш говорила, Эрве Жонкур слушал -- не открывай глаза, если можешь, и ласкай себя, у тебя такие красивые руки, они столько раз снились мне, теперь я хочу видеть их, мне приятно видеть их на твоей коже, вот так, прошу тебя, продолжай, не открывай глаза, я здесь, нас никто не видит, я рядом, ласкай себя, мой любимый, мой господин, ласкай себя внизу живота, прошу тебя, не спеши, - она остановилась; пожалуйста, дальше, сказал он -- она так хороша - твоя рука на твоем члене, не останавливайся, мне нравится смотреть на нее и смотреть на тебя, мой любимый, мой господин, не открывай глаза, не сейчас, тебе не надо бояться, я рядом, ты слышишь? я здесь, я могу коснуться тебя, это шелк, ты чувствуешь? это мое шелковое платье, не открывай глаза, и ты познаешь мою кожу, - она читала не торопясь, голосом женщины-девочки -- ты изведаешь мои губы; в первый раз я коснусь тебя губами, и ты не поймешь, где именно, ты вдруг почувствуешь тепло моих губ и не сможешь понять где, если не откроешь глаза - не открывай их, и ты почувствуешь мои губы совсем внезапно, - он слушал неподвижно; из кармашка серой тройки выглядывал белоснежный платок -- быть может, на твоих глазах: я прильну губами к твоим векам и бровям, и ты почувствуешь, как мое тепло проникает в твою голову, а мои губы - в твои глаза; а может, ты почувствуешь их на твоем члене: я приложусь к нему губами и постепенно их разомкну, спускаясь все ниже и ниже, - она говорила, склонившись над листами и осторожно касаясь рукой шеи -- и твой член раскроет мои уста, проникая меж губ и тесня язык, моя слюна стечет по твоей коже и увлажнит твою руку, мой поцелуй и твоя рука сомкнутся на твоем члене одно в одном, - он слушал, не сводя глаз с пустой серебряной рамы, висевшей на стене -- а под конец я поцелую тебя в сердце, потому что хочу тебя; я вопьюсь в кожу, что бьется на твоем сердце, потому что хочу тебя, и твое сердце будет на моих устах, и ты будешь моим, весь, без остатка, и мои уста сомкнутся на твоем сердце, и ты будешь моим, навсегда; если не веришь - открой глаза, мой любимый, мой господин, и посмотри на меня: это я, разве кому-то под силу перечеркнуть теперешний миг и мое тело, уже не обвитое шелком, и твои руки на моем теле, и устремленный на меня взгляд, - она говорила, подавшись к лампе; пламенный свет заливал бумагу, сочась сквозь ставшее прозрачным платье -- твои пальцы у меня внутри, твой язык на моих губах, ты скользишь подо мной, берешь меня за бедра, приподнимаешь и плавно сажаешь меня на свой член; кто сможет перечеркнуть все это: ты медленно движешься внутри меня, твои ладони на моем лице, твои пальцы у меня во рту, наслаждение в твоих глазах, твой голос, ты движешься медленно, но все же делаешь мне больно - и так приятно, мой голос, - он слушал; в какое-то мгновение он обернулся к ней, увидел ее, попробовал опустить глаза, но не смог -- мое тело на твоем, выгибаясь, ты легонько подбрасываешь его, твои руки удерживают меня, я чувствую внутри себя удары - это сладостное исступление, я вижу, как твои глаза пытливо всматриваются в мои, чтобы понять, докуда мне можно сделать больно: докуда хочешь, мой любимый, мой господин, этому нет предела и не будет, ты видишь? никто не сможет перечеркнуть теперешний миг, и ты вечно будешь с криком закидывать голову, я вечно буду закрывать глаза, смахивая слезы с ресниц, мой голос в твоем голосе, ты удерживаешь меня в своем неистовстве, и мне уже не вырваться, не отступиться, ни времени, ни сил больше нет, этот миг должен был настать, и вот он настал, верь мне, мой любимый, мой господин, этот миг пребудет отныне и вовек, и так до скончания времен. - она говорила чуть слышно и наконец умолкла. На листе, который она держала в руке, не было других знаков: тот был последним. Однако, повернув лист, чтобы положить его, она увидела на обратной стороне еще несколько аккуратно выведенных строк - черные чернила посреди белого поля страницы. Она вскинула глаза на Эрве Жонкура. Он смотрел на нее проникновенным взглядом, и она поняла, какие прекрасные у него глаза. Она опустила взгляд на лист. - Мы больше не увидимся, мой господин. - сказала она -- - Положенное нам мы сотворили, и вы это знаете. Верьте: сделанное нами останется навсегда. Живите своей жизнью вдали от меня. Когда же так будет нужно для вашего счастья, не раздумывая, забудьте об этой женщине, которая без сожаления говорит вам сейчас "прощай". Некоторое время она еще смотрела на лист бумаги, затем присоединила его к остальным, возле себя, на столике светлого дерева. Эрве Жонкур сидел не двигаясь. Он лишь повернул голову и опустил глаза, невозмутимо уставившись на едва намеченную, но безукоризненную складку, пробороздившую его правую брючину от паха до колена. Мадам Бланш встала, нагнулась к лампе и потушила ее. В комнате теплился слабый свет, проникавший туда через круглое окошко. Она приблизилась к Эрве Жонкуру, сняла с пальца кольцо из крохотных голубых цветков и положила его рядом с ним. Потом сделала несколько шагов, отворила маленькую расписную дверцу, спрятанную в стене, и удалилась, оставив дверцу полуоткрытой. Эрве Жонкур долго сидел в этом необыкновенном свете и все вертел в руках цветочное кольцо. Из гостиной доносились звуки усталого рояля: они растворяли время почти до неузнаваемости. Наконец он встал, подошел к столику светлого дерева, собрал семь листов рисовой бумаги. Пересек комнату, не глядя миновал полуоткрытую дверцу и вышел.
В последующие годы Эрве Жонкур избрал для себя тот ясный образ жизни, какой пристал человеку, не ведающему нужды. Он коротал дни под опекой размеренных переживаний. В Лавильдье, как и прежде, восхищались этим человеком, ибо видели в нем воплощение правильной жизни, к которой и следует стремиться на этом свете. Говаривали, что таким он был и в молодости, до хождений в Японию. Он взял за правило совершать раз в год небольшое путешествие со своей женой Элен. Они повидали Неаполь, Рим, Мадрид, Мюнхен, Лондон. Однажды добрались до самой Праги, где все казалось им театром. Они путешествовали, не считаясь со временем и не строя заранее планов. Их поражало все: втайне, даже собственное счастье. Когда они начинали тосковать по тишине, то возвращались в Лавильдье. Спроси его кто-нибудь, Эрве Жонкур ответил бы, что они готовы жить так вечно. Он источал совершенное умиротворение, как человек, живущий в согласии с собой. Иногда, ветреным днем, он выходил в парк, спускался к пруду и часами просиживал на берегу, глядя, как рябь на воде слагается в необычайные фигуры, играющие то тут, то там шальным блеском. Повсюду веял все тот же ветер, но при взгляде на водную гладь казалось, что их тысяча. От края до края. Пленительная картина. Легкая и необъяснимая. Иногда, ветреным днем, Эрве Жонкур спускался к пруду и часами смотрел на воду, расчерченную легкими и необъяснимыми картинами, в которые слагалась его жизнь.
16 июня 1871, ближе к полудню, в дальней части кабачка Вердена, калека закатил дурака от четырех бортов с откатом. Потрясенный Бальдабью оцепенел, согнувшись над столом: одна рука отъехала за спину, другая все еще сжимала кий. - Вот те на. Он распрямился, положил кий и, не сказав ни слова, вышел. Через три дня Бальдабью уехал. Обе свои прядильни он подарил Эрве Жонкуру. - О шелке я больше знать ничего не желаю, Бальдабью. - Продай их, дурень. Никому так и не удалось у него выудить, куда это он вдруг наладился. И на кой черт. Он что-то там промямлил насчет святой Агнессы, но никто толком не понял. В день отъезда Эрве Жонкур и Элен проводили его на вокзал в Авиньоне. При нем имелся всего один чемодан, что, в общем, тоже было маловразумительно. Увидав пыхтевший у перрона поезд, он опустил чемодан на землю. - Знавал я одного оригинала, который проложил железную дорогу для себя одного. Сказал он. - Самое интересное, что она была совершенно прямой: сотни верст без единого поворота. На то была какая-то причина, только уже не помню какая. Вечно эти причины забываются. Ну да ладно, прощайте. Он не особо тяготел к серьезным разговорам. А прощание, как ни крути, разговор серьезный. Они смотрели, как он удаляется: он и его чемодан. Навсегда. И тут Элен совершила нечто странное. Отпрянув от Эрве Жонкура, она кинулась вслед за Бальдабью. Догнала его, крепко обняла и разрыдалась. Элен вообще-то никогда не плакала. Эрве Жонкур продал обе прядильни за бесценок Мишелю Ларио. Душа-человек. Двадцать лет, каждую субботу, он с несокрушимым постоянством продувал Бальдабью в домино. У него было три дочери. Первых двух звали Флоранс и Сильвия. Зато третью - Агнесса.
Три года спустя, зимой 1874, Элен заболела воспалением мозга. Врачи не смогли ни объяснить, ни вылечить его. Она умерла в начале марта. Дождливым днем. Проститься с ней пришли все жители Лавильдье. Они молча поднимались по кладбищенской аллее. Элен была светлым человеком и не принесла никому горя. Эрве Жонкур велел выбить на ее могиле одно-единственное слово: Helas . Он всех благодарил, то и дело твердя, что ему ничего не нужно, и вернулся домой. Никогда еще дом не казался Эрве Жонкуру таким большим. А его судьба - такой бессвязной. Поскольку отчаяние было крайностью ему не свойственной, он сосредоточился на том, что осталось от его жизни, и снова начал ухаживать за ней с неумолимым упорством садовника, берущегося за работу наутро после бури.
Однажды, спустя два месяца и одиннадцать дней после смерти Элен, Эрве Жонкур пошел на кладбище. Рядом с розами, которые он приносил на могилу жены каждую неделю, Эрве Жонкур увидел венчик из крохотных голубых цветков. Нагнувшись, он стал рассматривать их и долго еще пребывал в таком положении. Случись кому застигнуть эту сцену, она наверняка показалась бы ему странноватой, если не сказать смешной. Придя домой, Эрве Жонкур, против обыкновения, уже не выходил работать в парк, а сел в кабинете и задумался. С утра до вечера он только то и делал. Думал.
На рю Москат, 12 он обнаружил ателье. Ему сказали, что мадам Бланш давно здесь не живет. Он узнал, что она переехала в Париж и стала содержанкой какого-то высокопоставленного лица, вероятно политика. Эрве Жонкур выехал в Париж. На поиски адреса ушло шесть дней. Он послал ей записку с просьбой о встрече. Она ответила, что ждет его в четыре пополудни следующего дня. Точно в назначенный час он поднялся в третий этаж изящного особняка на бульваре Капуцинов. Дверь открыла горничная. Она провела его в гостиную. Мадам Бланш появилась в очень элегантном и очень французском платье. Волосы ниспадали ей на плечи, сообразно тогдашней парижской моде. Колец из голубых цветков на руках не было. Она села против Эрве Жонкура, не говоря ни слова. И замерла в ожидании. Он посмотрел ей в глаза, как посмотрел бы ребенок. - Ведь это вы написали то письмо, не правда ли? Сказал он. - Элен попросила вас написать, и вы написали. Мадам Бланш сидела, затаив дыхание, не отводя глаз, не выдавая ни малейшего волнения. Наконец она промолвила: - Письмо писала не я. Молчание. - Его написала Элен. Молчание. - Когда она пришла ко мне, оно уже было написано. Она попросила меня переложить письмо на японский. И я согласилась. Вот как все было. В этот момент Эрве Жонкур понял, что будет слышать ее слова всю свою жизнь. Он встал и продолжал стоять, словно внезапно позабыл, куда идти. Откуда-то издалека до него донесся голос мадам Бланш: - А еще она захотела прочесть его. У нее был чарующий голос. Она произносила эти слова с таким волнением, которого мне не забыть никогда. Как будто это были ее настоящие слова. Эрве Жонкур шел по гостиной, еле волоча ноги. - Видите ли, месье, я думаю, что больше всего на свете ей хотелось стать той женщиной. Вам этого не понять. А я слышала, как она читает свое письмо. И знаю, что это так. Эрве Жонкур подошел к двери, взялся за ручку и, не оборачиваясь, выдохнул: - Прощайте, мадам. Это была их последняя встреча.
Эрве Жонкур прожил еще двадцать три года. Большую часть из них - в добром здравии и душевном покое. Он уже никуда не уезжал из Лавильдье и не покидал своего дома. Он мудро распоряжался своим состоянием, и это избавило его от необходимости работать где бы то ни было, кроме собственного парка. Со временем он стал позволять себе удовольствие, в котором раньше всегда отказывал: навещавшим его он описывал свои путешествия. Слушая эти рассказы, жители Лавильдье познавали мир, а дети постигали чудо. Говорил он медленно, замечая в воздухе то, чего другие не замечали. По воскресеньям он выбирался в город к Праздничной мессе. Раз в году объезжал местные прядильни, чтобы потрогать новорожденный шелк. Когда одиночество сжимало ему сердце, он приходил на кладбище поговорить с Элен. Остаток времени он проводил в кругу обрядовых привычек, ограждавших его от уныния. Иногда, ветреным днем, он спускался к пруду и часами смотрел на воду, расчерченную легкими и необъяснимыми картинами, в которые слагалась его жизнь.
КОНЕЦ |
Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104
Количество просмотров у этой темы: 493642.
← Предыдущая тема: Сектор Волопас - Мир Арктур - Хладнокровный мир (общий)




















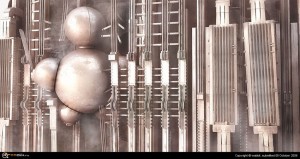









 2015 © ART-Talk.ru - форум про компьютерную графику, CG арт, сообщество цифровых художников (18+)
2015 © ART-Talk.ru - форум про компьютерную графику, CG арт, сообщество цифровых художников (18+)