Список разделов » Сектора и Миры
Сектор Орион - Мир Беллатрикс - Сказочный мир
| Автор: Chanda | Г. Х. Андерсен Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях
Пронесется ветер над травой, и по ней пробежит зыбь, как по воде; пронесется над нивою, и она взволнуется, как море. Так танцует ветер. А послушай его рассказы! Он поет их, и голос его звучит по-разному: в лесу — так, в слуховых окнах, щелях и трещинах стен — иначе. Видишь, как он гонит по небу облака, точно стада овец? Слышишь, как он воет в открытых воротах, будто сторож трубит в рог? А как странно гудит он в дымоходе, врываясь в камин! Пламя вспыхивает и разлетается искрами, озаряя дальние углы комнаты, и сидеть тут, слушая его, тепло и покойно. Пусть рассказывает только он один! Сказок и историй он знает больше, чем все мы, вместе взятые. Слушай же, он начинает рассказ! "У-у-уу! Лети дальше!" — это его припев. — На берегу Большого Бельта стоит старый замок с толстыми красными стенами, — начал ветер. — Я знаю там каждый камень, я видел их все, еще когда они сидели в стенах замка Марека Стига. Замок снесли, а камни опять пошли в дело, из них сложили новые стены, новый замок, в другом месте — в усадьбе Борребю, он стоит там и поныне. Знавал я и высокородных владельцев и владетельниц замка, много их поколений сменилось на моих глазах. Сейчас я расскажу о Вальдемаре До и его дочерях! Высоко держал он свою голову — в нем текла королевская кровь. И умел он не только оленей травить да кубки осушать, а кое-что получше, а что именно — "поживем-увидим", говаривал он. Супруга его, облаченная в парчовое платье, гордо ступала по блестящему мозаичному полу. Роскошна была обивка стен, дорого плачено за изящную резную мебель. Много золотой и серебряной утвари принесла госпожа в приданое. В погребах хранилось немецкое пиво — пока там вообще что-либо хранилось. В конюшнях ржали холеные вороные кони. Богато жили в замке Ворребю — пока богатство еще держалось. Были у хозяев и дети, три нежных девушки: Ида, Йоханна и Анна Дортея. Я еще помню их имена. Богатые то были люди, знатные, родившиеся и выросшие в роскоши. У-у-уу! Лети дальше! — пропел ветер и продолжал свой рассказ: — Тут не случалось мне видеть, как в других старинных замках, чтобы высокородная госпожа вместе со своими девушками сидела в парадном зале за прялкой. Нет, она играла на звучной лютне и пела, да не одни только старые датские песни, а и чужеземные, на других языках. Тут шло гостеванье и пированье, гости наезжали и из дальних и из ближних мест, гремела музыка, звенели бокалы, и даже мне не под силу было их перекрыть! Тут с блеском и треском гуляла спесь, тут были господа, но не было радости. Стоял майский вечер, — продолжал ветер, — я шел с запада. Я видел, как разбивались о ютландский берег корабли, я пронесся над вересковой пустошью и зеленым лесистым побережьем, я, запыхавшись и отдуваясь, прошумел над островом Фюн и Большим Бельтом и улегся только у берегов Зеландии, близ Борребю, в великолепном дубовом лесу — он был еще цел тогда. По лесу бродили парни из окрестных деревень и собирали хворост и ветви, самые крупные и сухие. Они возвращались с ними в селение, складывали их в кучи, поджигали и с песнями принимались плясать вокруг. Девушки не отставали от парней. Я лежал смирно, — рассказывал ветер, — и лишь тихонько дул на ветку, положенную самым красивым парнем. Она вспыхнула, вспыхнула ярче всех, и парня назвали королем праздника, а он выбрал себе из девушек королеву. То-то было веселья и радости — больше, чем в богатом господском замке Борребю. Тем временем к замку подъезжала запряженная шестерней золоченая карета. В ней сидела госпожа и три ее дочери, три нежных, юных, прелестных цветка: роза, лилия и бледный гиацинт. Сама мать была как пышный тюльпан и не отвечала ни на один книксен, ни на один поклон, которыми приветствовали ее приостановившие игру поселяне. Тюльпан словно боялся сломать свой хрупкий стебель. "А вы, роза, лилия и бледный гиацинт, — да, я видел их всех троих, — чьими королевами будете вы? — думал я. — Вашим королем будет гордый рыцарь, а то, пожалуй, и принц!" У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше! Так вот, карета проехала, и поселяне вновь пустились в пляс. Госпожа совершала летний объезд своих владений — Борребю, Тьеребю, всех селений окрест. А ночью, когда я поднялся, — продолжал ветер, — высокородная госпожа легла, чтобы уже не встать. С нею случилось то, что случается со всеми людьми, ничего нового. Вальдемар До стоял несколько минут серьезный и задумчивый. Гордое дерево гнется, но не ломается, думалось ему. Дочери плакали, дворня тоже утирала глаза платками. Госпожа До поспешила дальше из этого мира, полетел дальше и я! У-у-уу! — сказал ветер. Я вернулся назад — я часто возвращался, — проносясь над островом Фюн и Большим Бельтом, и улегся на морской берег в Борребю, близ великолепного дубового леса. В нем вили себе гнезда орланы, вяхири, синие вороны и даже черные аисты. Стояла ранняя весна. Одни птицы еще сидели на яйцах, другие уже вывели птенцов. Ах, как летали, как кричали птичьи стаи! В лесу раздавались удары топоров, дубы были обречены на сруб. Вальдемар До собирался построить дорогой корабль — военный трехпалубный корабль, его обещал купить король. Вот почему валили лес — примету моряков, прибежище птиц. Летали кругами вспугнутые сорокопуты — их гнезда были разорены. Орланы и прочие лесные птицы лишались своих жилищ. Они как шальные кружили в воздухе, крича от страха и злобы. Я понимал их. А вороны и галки кричали громко и насмешливо: "Крах! Вон из гнезда! Крах! Крах!" Посреди леса, возле артели лесорубов, стояли Вальдемар До и три его дочери. Все они смеялись над дикими криками птиц, все, кроме младшей, Анны Дортеи. Ей было жаль птиц, и когда настал черед полузасохшего дуба, на голых ветвях которого ютилось гнездо черного аиста с уже выведенными птенцами, она попросила не рубить дерево, попросила со слезами на глазах, и дуб пощадили ради черного аиста — стоило ли разговаривать из-за одного дерева! Затем пошла пилка и рубка — строили трехпалубный корабль. Сам строитель был незнатного рода, но благородной души человек. Глаза и лоб обличали в нем ум, и Вальдемар До охотно слушал его рассказы. Заслушивалась их и молоденькая Ида, старшая дочь, которой было пятнадцать лет. Строитель же, сооружая корабль для Вальдемара До, строил воздушный замок и для себя, в котором он и Ида сидели рядышком, как муж и жена. Так оно и сталось бы, будь его замок с каменными стенами, с валами и рвами, с лесом и садом. Только где уж воробью соваться в танец журавлей! Как ни умен был молодой строитель, он все же был бедняк. У-у-уу! Умчался я, умчался и он — не смел он больше там оставаться, а Ида примирилась со своей судьбой, что же ей было делать?.. В конюшнях ржали вороные кони, на них стоило поглядеть, и на них глядели. Адмирал, посланный самим королем для осмотра и покупки нового военного корабля, громко восхищался ретивыми конями. Я хорошо все слышал, ведь я прошел за господами в открытые двери и сыпал им под ноги золотую солому, — рассказывал ветер. — Вальдемар До хотел получить золото, а адмирал — вороных коней, оттого-то он и нахваливал их. Но его не поняли, и дело не сладилось. Корабль как стоял, так и остался стоять на берегу, прикрытый досками, — Ноев ковчег, которому не суждено было пуститься в путь. У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше! Жалко было смотреть на него! Зимою, когда земля лежала под снегом, плавучие льды забили весь Бельт, а я нагонял их на берег, — говорил ветер. — Зимою прилетали стаи ворон и воронов, одни чернее других. Птицы садились на заброшенный, мертвый, одинокий корабль, стоявший на берегу, и хрипло кричали о загубленном лесе, о разоренных дорогих им гнездах, о бесприютных старых птицах о бездомных молодых, и все ради этого величественного хлама — гордого корабля, которому не суждено выйти в море. Я вскрутил снежный вихрь, и снег ложился вокруг корабля и накрывал его, словно разбушевавшиеся волны. Я дал ему послушать свой голос и музыку бури. Моя совесть чиста: я сделал свое дело, познакомил его со всем, что полагается знать кораблю. У-у-уу! Лети дальше! Прошла и зима. Зима и лето проходят, как проношусь я, как проносится снег, как облетает яблоневый цвет и падают листья. Лети дальше! Лети дальше! Лети дальше! Так же и с людьми... Но дочери были еще молоды. Ида по-прежнему цвела, словно роза, как и в то время, когда любовался ею строитель корабля. Я часто играл ее распущенными русыми волосами, когда она задумчиво стояла под яблоней в саду, не замечая, как я осыпаю ее цветами. Она смотрела на красное солнышко и золотой небосвод, просвечивавший между темными деревьями и кустами. Сестра ее, Йоханна, была как стройная блестящая лилия; она была горда и надменна и с такой же тонкой талией, какая была у матери. Она любила заходить в большой зал, где висели портреты предков. Знатные дамы были изображены в бархатных и шелковых платьях и затканных жемчугом шапочках, прикрывавших заплетенные в косы волосы. Как прекрасны были они! Мужья их были в стальных доспехах или дорогих мантиях на беличьем меху с высокими стоячими голубыми воротниками. Мечи они носили не на пояснице, а у бедра. Где-то будет висеть со временем портрет Йоханны, как-то будет выглядеть ее благородный супруг? Вот о чем она думала, вот что беззвучно шептали ее губы. Я подслушал это, когда ворвался в зал по длинному проходу и, переменившись, понесся вспять. Анна Дортея, еще четырнадцатилетняя девочка, была тиха и задумчива. Большие синие, как море, глаза ее смотрели серьезно и грустно, но на устах порхала детская улыбка. Я не мог ее сдуть, да и не хотел. Я часто встречал Анну Дортею в саду, на дороге и в поле. Она собирала цветы и травы, которые могли пригодиться ее отцу: он приготовлял из них питье и капли. Вальдемар До был не только заносчив и горд, но и учен. Он много знал. Все это видели, все об этом шептались. Огонь пылал в его камине даже в летнее время, а дверь была на замке. Он проводил взаперти дни и ночи, но не любил распространяться о своей работе. Силы природы надо испытывать в тиши. Скоро, скоро найдет он самое лучшее, самое драгоценное — червонное золото. Вот почему из камина валил дым, вот почему трещало и полыхало в нем пламя. Да, да, без меня тут не обошлось, — рассказывал ветер. "Будет, будет! — гудел я в трубу. — Все развеется дымом, сажей, золой, пеплом. Ты прогоришь! У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше!" Вальдемар До стоял на своем. Куда же девались великолепные лошади из конюшен? Куда девалась старинная золотая и серебряная утварь из шкафов? Куда девались коровы с полей, все добро и имение? Да, все это можно расплавить! Расплавить в золотом тигле, но золота не получить. Пусто стало в кладовых, в погребах и на чердаках. Убавилось людей, прибавилось мышей. Оконное стекло лопнет здесь, треснет там, и мне уже не надо входить непременно через дверь, — рассказывал ветер. — Где дымится труба, там готовится еда, а тут дымилась такая труба, что пожирала всю еду ради червонного золота. Я гудел в крепостных воротах, словно сторож трубил в рог, но тут не было больше сторожа, — рассказывал ветер. — Я вертел башенный флюгер, и он скрипел, словно сторож храпел на башне, но сторожа не было и там — были только крысы да мыши. Нищета накрывала на стол, нищета водворилась в платяных шкафах и буфетах, двери срывались с петель, повсюду появились трещины и щели, я свободно входил и выходил, — рассказывал ветер, — оттого-то и знаю, как все было. От дыма и пепла, от забот и бессонных ночей поседели борода и виски владельца Борребю, пожелтело и избороздилось морщинами лицо, но глаза по-прежнему блестели в ожидании золота, желанного золота. Я пыхал ему дымом и пеплом в лицо и бороду. Вместо золота явились долги. Я свистел в разбитых окнах и щелях, задувал в сундуки дочерей, где лежали их полинявшие, изношенные платья — носить их приходилось без конца, без перемены. Да, не такую песню пели девушкам над колыбелью! Господское житье стало житьем горемычным. Лишь я один пел там во весь голос! — рассказывал ветер. — Я засыпал весь замок снегом — говорят, будто под снегом теплее. Взять дров неоткуда было, лес-то ведь вырубили. А мороз так и трещал. Я гулял по всему замку, врывался в слуховые окна и проходы, резвился над крышей и стенами. Высокородные дочери попрятались от холода в постели, отец залез под меховое одеяло. Ни еды, ни дров — вот так господское житье! У-у-уу! Лети дальше! Будет, будет! Но господину До было мало. "За зимою придет весна, — говорил он. — За нуждою придет достаток. Надо только немножко подождать, подождать. Имение заложено, теперь самое время явиться золоту, и оно явится к празднику". Я слышал, как он шептал пауку: "Ты, прилежный маленький ткач, ты учишь меня выдержке. Разорвут твою ткань, ты начинаешь с начала и доводишь работу до конца. Разорвут опять — ты опять, не пав духом, принимаешься за дело. С начала, с начала! Так и следует! И в конце концов ты будешь вознагражден". Но вот и первый день пасхи. Зазвонили колокола, заиграло на небе солнце. Вальдемар До лихорадочно работал всю ночь, кипятил, охлаждал, перемешивал, возгонял. Я слышал, как он вздыхал в отчаянии, слышал, как он молился, слышал, как он задерживал дыхание. Лампа его потухла — он этого не заметил. Я раздувал уголья, они бросали красный отсвет на его бледное как мел лицо с глубоко запавшими глазами. И вдруг глаза его стали расширяться все больше и больше и вот уже, казалось, готовы были выскочить из орбит. Поглядите в сосуд алхимика! Там что-то мерцает. Горит, как жар, чистое и тяжелое... Он подымает сосуд дрожащей рукою, он с дрожью в голосе восклицает: "Золото! Золото!" У него закружилась голова, я мог бы свалить его одним дуновением, — рассказывал ветер, — но я лишь подул на угли и последовал за ним в комнату, где мерзли его дочери. Его камзол, борода, взлохмаченные волосы были обсыпаны пеплом. Он выпрямился и высоко поднял сокровище, заключенное в хрупком сосуде. "Нашел! Получил! Золото!" — закричал он и протянул им сосуд, искрившийся на солнце, но тут рука его дрогнула, и сосуд упал на пол, разлетелся на тысячу осколков. Последний мыльный пузырь надежды лопнул... У-у-уу! Лети дальше! И я унесся из замка алхимика. Поздней осенью, когда дни становятся короче, а туман приходит со своей мокрой тряпкой и выжимает капли на ягоды и голые сучья, я вернулся свежий и бодрый, проветрил и обдул небо от туч и, кстати, пообломал гнилые ветви — работа не ахти какая, но кто-то должен же ее делать. В замке Борребю тоже было чисто, словно выметено, только на другой лад. Недруг Вальдемара До, Ове Рамель из Баснеса, явился с закладной на именье: теперь замок и все имущество принадлежали ему. Я колотил по разбитым окнам, хлопал ветхими дверями, свистел в щели и дыры: "У-у-уу! Пусть не захочется господину Ове остаться тут!" Ида и Анна Дортея заливались горькими слезами; Йоханна стояла гордо выпрямившись, бледная, до крови прикусив палец. Но что толку! Ове Рамель позволил господину До жить в замке до самой смерти, но ему и спасибо за это не сказали. Я все слышал, я видел, как бездомный дворянин гордо вскинул голову и выпрямился. Тут я с такой силой хлестнул по замку и старым липам, что сломал толстенную и нисколько не гнилую ветвь. Она упала возле ворот и осталась лежать, словно метла, на случай, если понадобится что-нибудь вымести. И вымели — прежних владельцев. Тяжелый выдался день, горький час, но они были настроены решительно и не гнули спины. Ничего у них не осталось, кроме того, что было на себе, да вновь купленного сосуда, в который собрали с пола остатки сокровища, так много обещавшего, но не давшего ничего. Вальдемар До спрятал его на груди, взял в руки посох, и вот некогда богатый владелец замка вышел со своими тремя дочерьми из Борребю. Я охлаждал своим дуновением его горячие щеки, гладил по бороде и длинным седым волосам и пел, как умел: "У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше!" Ида и Анна Дортея шли рядом с отцом; Йоханна, выходя из ворот, обернулась. Зачем? Ведь счастье не обернется. Она посмотрела на красные стены, возведенные из камней замка Марека Стига, и вспомнила о его дочерях. «И старшая, младшую за руку взяв, Пустилась бродить с ней по свету». Вспомнила ли Йоханна эту песню? Тут изгнанниц было трое, да четвертый — отец. И они поплелись по дороге, по которой, бывало, ездили в карете, поплелись в поле Смидструп, к жалкой мазанке, снятой ими за десять марок в год, — новое господское поместье, пустые стены, пустая посуда. Вороны и галки летали над ними и насмешливо кричали: "Крах! Крах! Разорение! Крах!" — как кричали птицы в лесу Борребю, когда деревья падали под ударами топоров. Господин До и его дочери отлично понимали эти крики, хоть я и дул им в уши изо всех сил — стоило ли слушать? Так вошли они в мазанку, а я понесся над болотами и полями, над голыми кустами и раздетыми лесами, в открытое море, в другие страны. У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше! И так из года в год. Что же сталось с Вальдемаром До, что сталось с его дочерьми? Ветер рассказывает: — Последней я видел Анну Дортею, бледный гиацинт, — она была уже сгорбленной старухой, прошло ведь целых пятьдесят лет. Она пережила всех и все знала. На вересковой пустоши близ города Виборга стоял новый красивый дом священника — красные стены, зубчатый фронтон. Из трубы валил густой дым. Кроткая жена священника и красавицы дочери сидели у окна и смотрели поверх кустов садового терновника на бурую пустошь. Что же они там видели? Они видели гнездо аиста, лепившееся на крыше полуразвалившейся хижины. Вся крыша поросла мхом и диким чесноком, и покрывала-то хижину главным образом не она, а гнездо аиста. И оно одно только и чинилось — его держал в порядке сам аист. На хижину эту можно было только смотреть, но уж никак не трогать! Даже мне приходилось дуть здесь с опаской! — рассказывал ветер. — Только ради гнезда аиста и оставляли на пустоши такую развалюху, не то давно бы снесли. Семья священника не хотела прогонять аиста, и вот хижина стояла, а в ней жила бедная старуха. Своим приютом она была обязана египетской птице, а может, и наоборот, аист был обязан ей тем, что она вступилась когда-то за гнездо его черного брата, жившего в лесу Борребю. В те времена нищая старуха была нежным ребенком, бледным гиацинтом высокородного цветника. Анна Дортея помнила все. "О-ох! — Да, и люди вздыхают, как ветер в тростнике и осоке. — О-ох! Не звонили колокола над твоею могилой, Вальдемар До! Не пели бедные школьники, когда бездомного владельца Борребю опускали в землю!.. Да, всему, всему наступает конец, даже несчастью!.. Сестра Ида вышла замуж за крестьянина. Это-то и нанесло отцу самый жестокий удар... Муж его дочери — жалкий раб, которого господин может посадить на кобылку. Теперь и он, наверно, в земле, и сестра Ида. Да, да! Только мне, бедной, судьба конца не посылает!" Так говорила Анна Дортея в жалкой хижине, стоявшей лишь благодаря аисту. Ну, а о самой здоровой и смелой из сестер позаботился я сам! — продолжал ветер. — Она нарядилась в платье, которое было ей больше по вкусу: переоделась парнем и нанялась в матросы на корабль. Скупа была она на слова, сурова на вид, но от дела не отлынивала, вот только лазать не умела. Ну, я и сдул ее в воду, пока не распознали, что она женщина, — и хорошо сделал! Был первый день пасхи, как и тогда, когда Вальдемару До показалось, что он получил золото, и я услыхал под крышей с гнездом аиста пение, последнюю песнь Анны Дортеи. В хижине не было даже окна, а просто круглое отверстие в стене. Словно золотой самородок, взошло солнце и заполнило собой хижину. Что за блеск был! Глаза Анны Дортеи не выдержали, не выдержало и сердце. Впрочем, солнце тут ни при чем; не озари оно ее в то утро, случилось бы то же самое. По милости аиста у Анны Дортеи был кров над головой до последнего дня ее жизни. Я пел и над ее могилой, и над могилой ее отца, я знаю, где и та и другая, а кроме меня, не знает никто. Теперь настали новые времена, другие времена! Старая проезжая дорога упирается теперь в огороженное поле, новая проходит по могилам, а скоро промчится тут и паровоз, таща за собой ряд вагонов и грохоча над могилами, такими же забытыми, как и имена. У-у-уу! Лети дальше! Вот вам и вся история о Вальдемаре До и его дочерях. Расскажи ее лучше, кто сумеет! — закончил ветер и повернул в другую сторону. И след его простыл. | ||
| Автор: Chanda | Ф Сологуб. Харя и Кулак. Сидела в избе Харя и глядела на улицу. Сидит, глядит — мухи дохнут, молоко киснет.
Шел мимо Кулак. Понравилась ему Харя. Он и говорит:
— Харя, а Харя, иди за меня замуж.
А Харя ему отвечает:
— Пошла бы я за тебя замуж, а только вы, мужчины, коварные изменщики. Променяешь меня на прекрасную Алёну, а я буду самая разнесчастная.
Кулак отвечает:
— Не боись, я эту Алёну сокрушу, ты мне только дай ее адрес.
Харя очень обрадовалась, заставила Кулака побожиться, что он не обманет, и дала ему Алёнин адрес. Пошел Кулак к Алёне прекрасной, нашел Алёну прекрасную по адресу и своим глазам не верит. Спрашивает:
— Ты Алена прекрасная?
Алена смеется, говорит:
— Я сама и есть.
Плюнул Кулак, говорит:
— Ни кожи, ни рожи, ни виденья. Не хочу о тебя и руки марать.
Пошел к Харе. Поженились. Каждый Божий день дерутся. Все Харя Кулака к Алёне ревнует. | ||
| Автор: Tangerine | Chanda, про "Харю и Кулака" | ||
| Автор: Alex Wer Graf |
Нет сил больше смеятся | ||
| Автор: Chanda | Уран-Дойду одарённый попугай Тувинская сказка Слушайте. Раньше раннего, древнее древнего былого это было. Рога барана тогда сгнивали и падали, рога быка рассыпались и в пыль превращались. И жил тогда хан Сарын. Три года болела, не вставала его жена. Хан пригласил двух жёлтых чурагачи, двух предсказателей, и сказал им: - Три года болеет моя жена. Что сделать, чтобы она встала? - Она должна съесть мозги ста птиц, - сказали жёлтые чурагачи. Хан стал думать, голову ломать, где найти мозги ста птиц. Он обошёл всё своё ханство, но среди его людей не было птицеловов. И вот однажды на далёкой узкой речке он встретил старика, который всю жизнь ставил петли да самострелы, на том и состарился. Сарын-хан подумал; «Вот кто мне нужен. Этот старик сможет убить сто птиц». И сказал: - Старик, приди ко мне, в мой ханский шатёр! Сарын-хан ускакал, а старик, преодолевая страх, поехал за ним. Разве можно ослушаться, если хан приказал! И хотя не было таких правил, чтобы хан уважал простого человека, - Сарын-хан поставил около дверей столик и усадил за него старика. На столик хан выставил свою самую удивительную пищу. - Ешь, старик, и знай: три года не встаёт моя жена; учёные люди сказали, что вылечить её можно мозгом твоей головы, потому что ты убил сто птиц. Ешь, старик, хорошенько ешь, ведь больше не придётся тебе ходить под светлым солнцем, ведь умрёшь старик, ешь в последний раз! Старик говорит: - О мой хан, вместе со мной состарилась моя жена. Теперь она умрёт с голоду. Не найдётся ли у вас человека, который отнёс бы ей всё это, чтобы она хоть раз в жизни насытилась такой хорошей, вкусной едой? И слёзы покатились по его щекам. - Ну-ну старик, какой ты несносный, какой ты надоедливый человек! Ладно принеси мне через три дня мозги ста птиц. Этим ты можешь заменить свою голову, - сказал хан. Старик радостно заулыбался. - О, я добуду сто птиц за три дня! В этом нет ничего трудного. Даже раньше, чем через три дня, я принесу сто птиц. Он сложил в мешок всю вкусную еду со стола, взвалил мешок на спину и кое-как добрался до своего чума. - Ну, старуха, был я у хана. Хан хотел забрать мою голову. Но, пожалев тебя, я выпросил у него замену. Вместо моей головы хан согласился взять головы ста птиц. Давай скорее плести петли. Старик со старухой до рассвета сплели пятьсот петель. В самом начале утра, когда небо чуть засинело, старик пошёл к речке. Там в тополях обитали попугаи, семьдесят один попугай. Один из них был одарённый попугай, мудрый попугай, и звали его Уран-Дойду. Когда старик подошёл к тополям, там уже никого не было. Попугаи улетели на кормёжку. Старик расставил петли. «Когда вернутся отдыхать – все тут будут», - подумал он. К вечеру попугаи возвращались на свои тополя. - Стойте! – крикнул одарённый попугай Уран-Дойду. – На тополя нельзя возвращаться, там чёрт! Давайте переночуем на скалах. И он повёл попугаев за собой, на другое обиталище. Назавтра старик говорит старухе: - Семьдесят один попугай сидит в моих петлях. Надо пойти их собрать. Он пришёл к тополям, но не было в петлях ни одной птицы. Старик понял, что в эту ночь попугаи ночевали на другом обиталище, на скалах, которые стояли поблизости. Он собрал свои пятьсот петель и расставил их на скалах. К вечеру попугаи возвращались с кормёжки. Одарённый попугай Уран-Дойду говорит: - Теперь здесь нам нельзя ночевать, теперь чёрт здесь. Мы сюда не полетим, а полетим на наши тополя. Семьдесят попугаев говорят: - Ты не зазнавайся, одарённый попугай! Ты, видно зазнался, одарённый попугай! Ты зазнался, что ты – одарённый попугай! Что ты нам говоришь? То там чёрт, то тут чёрт! Как может быть чёрт и там и тут? Или там чёрт, или тут! Не хотим мы дальше лететь, мы устали, наши лапы замёрзли. На скалах теплей, чем в тополях. Мы будем ночевать тут. Уран-Дойду один полетел к тополям. И вскоре услыхал, что все попугаи на скалах попали в петли. Они трепыхались, метались, шумели, кричали. Уран-Дойду подумал: «Они глупы, и они попали в беду. Но как можно, слыша их, не помочь им?» И он полетел на скалы. Попугаи хлопали крыльями и кричали: - Спаси нас, Уран-Дойду! Мы попались! Мы пропали! Мы погибнем! Мы умрём! - Я вас предупреждал. Вы меня не послушали. Вот вы и попались. Из петли самим не вырваться. Освободить вас может только старик. Слушайте меня. Ждите рассвета. Когда придёт старик – лежите не шевелясь, будто вы мёртвые. Старик вас всех унесёт со скал. Потом он будет каждого освобождать от петли, бросать на землю и считать: «Один, два, три, четыре…» Лежите на земле, не шевелитесь. Когда он скажет: «Семьдесят один» - все дружно взлетим. И Уран-Дойду залез в верхнюю петлю. Всю ночь пролежали попугаи. А утром пришёл старик – проверять петли. - Ага-а! – радостно закричал он, - попались, кулугуры! О, да вы все сдохли от страха! И, недолго думая, начал вынимать попугаев из петель, бросать на землю и считать. Птицы лежали не шевелясь. Наконец старик вынул из петли последнего попугая, Уран-Дойду. Не выпуская его из рук, он сказал: - Семьдесят один! И семьдесят глупых попугаев разом взлетели. - Ах, кулугуры! – закричал старик, - обманули меня! Ну, ладно, Уж с этим-то я расправлюсь. Глаза ему вырву! И сжал в руке Уран-Дойду, одарённого попугая. - Подожди, старик, не спеши, - заговорил попугай. – Мне всё равно, когда умирать, сейчас или потом. Но если ты убьёшь меня сейчас, я убью тебя потом. Я знаю, ты должен достать мозги ста птиц, и уже истёк срок. Я умру сегодня, а ты завтра. Но я могу тебя спасти. Пойди туда, где знают мне цену, пойди к дужумету Сарыылдыгу, который живёт недалеко от аала Сарын-хана. Моя цена – пятьдесят серебряных монет. За десять монет ты купишь сто птиц, а сорок оставишь себе и станешь богатым. Старик пошёл к дужумету. Сарыылдыг обрадовался и купил одарённого попугая за пятьдесят серебряных монет. Он сказал: - Я спас твою жизнь, Уран-Дойду. Давай будем родными братьями, как от одной матери. - Я согласен, ответил попугай. - Я должен уехать по делам, - сказал дужумет. – Когда меня нет, моя жена куда-то уходит. И никто не знает, куда она уходит. Ты, брат, посмотри за ней, не выпускай её из юрты. Только Сарыылдыг-дужумет уехал, его прекрасная жена оделась и начала седлать коня. Уран-Дойду сел на её плечо и сказал: - Что ж ты делаешь? Мой брат, твой муж на службу уехал. Разве можно уходить, когда его нет? - Что за чертовщина, что за надоедливая птица! – закричала красавица. – Неужели она так задаётся из-за того, что стоит пятьдесят серебряных монет? Я сейчас же отрублю голову этому кулугуру! У моего отца есть серебряная тренога, которая стоит пятьдесят серебряных монет. Её я отдам мужу вместо этой противной птицы! Слуги, хватайте её, вяжите! Слуги схватили попугая, связали ему лапы. Жена дужумета вытащила из ножен саблю и замахнулась. (Продолжение следует) | ||
| Автор: Chanda | Уран-Дойду одарённый попугай (продолжение)
- Подождите, моя невестка, не спешите! – крикнул попугай. – Я не знал что вы рассердитесь. Я хотел рассказать вам сказку. Если желаете слушать – слушайте. - Шияан, - сказала красавица. - Шияан, - начал Уран-Дойду. – «Давно это было. Жил у реки Улуг-Кара-Хем старый охотник. У него был единственный сын, который знал все девять языков. Однажды старик сказал: «Слушай меня, сынок. Завтра я умру. Тебе я оставляю три красные сияющие монеты. На них ты должен купить три добрых волшебных слова, которых ты не знаешь. Ни за что не отдавай монеты: ни за серебро, ни за золото, ни за прекрасную девушку, ни за несметный скот. Только за три слова отдай свои монеты. Этими словами ты поможешь людям». Всю ночь говорил старик, а на рассвете пришил три монеты козлиной жилкой к халату сына с внутренней стороны. И умер. Мальчик похоронил отца и пошёл на юг. Три сияющие красные монеты были видны сквозь халат и ночью светили, как три огня. Многие хотели их купить, многие хотели их украсть, но мальчик зорко их охранял. Шёл он долго, шёл все тридцать дней месяца и пришёл туда, где не росла трава, где был только горячий песок. Жёлтый песок раскалялся всё сильнее и сильнее, идики мальчика покоробились от жара, а на ногах появились волдыри. Куда ни глянь – везде сухая пустыня и больше ничего. Мальчик прошёл ещё несколько дней и наконец увидел аал. Это был аал богатого китайца. Китаец увидел три красные сияющие монеты, вышел навстречу мальчику и вежливо пригласил его к себе. Он посадил гостя на почётное место, угощал лучшей едой, сам ему прислуживал и всё время ласково улыбался. В юрте китайца мальчик увидел очень красивую, совсем молоденькую девушку. Китаец говорит: «Я вижу, мой дорогой гость, тебе понравилась эта девушка. Ты можешь у меня её купить. Я отдам её вместе со всем аалом за три красные монеты. Я хочу купить монеты.». – Есть три добрых волшебных слова, которых я не знаю, - сказал мальчик. – Только за них я отдам эти монеты. И больше ни за что. До самого рассвета надоедал китаец мальчику, но не смог его уговорить. А когда взошло солнце, закричал: «Нищая тварь! Целый день я тебя кормил! Первое слово, которого ты не знаешь, - это «Встань в стремя!» Остальных я не знаю сам». Он оторвал от халата мальчика одну из сияющих красных монет и, не дав ему поесть, выгнал. Мальчик пошёл дальше на юг. Было суше, чем в сухой степи, чем в жёлтой пустыне. И озёра ысохли, и реки высохли, и нечего было пить. Через три дня показался аал. Это был аал богатого китайца. Китаец увидел красные сияющие монеты, выбежал навстречу мальчику и очень вежливо пригласил его к себе. Он посадил гостя на самое почётное место, угощал самой вкусной едой, сам прислуживал и всё время улыбался. А потом сказал: «Я дам тебе рыжего коня с чёрными глазами, дам серебряное седло и потник, дам столько серебра, сколько сможет унести белый верблюд, - только отдай мне твои красные сияющие монеты!» - «Есть два добрых волшебных слова, которых я не знаю, - ответил мальчик. – Только за них я могу отдать мои монеты. Скажите их, и монеты – ваши». Китаец постелил гостю мягкую постель, сел рядом и до самого рассвета уговаривал мальчика продать монеты. А когда взошло солнце, закричал: «Нищая тварь! Слово, которого ты не знаешь, - это «Сути не узнав, не показывай нрав!» Второго я не знаю сам». И, упершись в мальчика ногой, он оторвал от его халата красную сияющую монету. Мальчик пошёл дальше на юг. Шёл два дня и две ночи и опять пришёл к богатому китайцу. И всё было как прежде. Ласковый хозяин ухаживал за гостем, а потом сказал: «Я дам тебе нарядную одежду и обувь, дам столько серебра, сколько сможет унести белый верблюд, - только отдай мне твою красную сияющую монету!» - «Есть одно доброе волшебное слово, которого я не знаю, Скажите его, и монета – ваша». Китаец постелил гостю мягкую постель, и всю ночь уговаривал продать монету. А утром закричал: «Нищая тварь! Слово, которого ты не знаешь, - это «Живите в мире!» А теперь убирайся!» И, оторвав последнюю монету от халата мальчика, он выгнал его. Мальчик пошёл дальше на юг. Не было кругом ни травы, ни воды ни аалов. Нечего было есть. И он подумал: «Мой отец – злой, коварный человек. Он меня погубил. Зачем мне эти три слова? Надо было хотя бы одну монету отдать за добро, за скот. А теперь я умру». И мальчик вырыл в песке могилу и лёг в неё. Вдруг он услыхал голоса многих людей. И нельзя было разобрать: то ли они поют, то ли плачут. «Этим людям я отдам одно из слов, которые наказал купить отец», - решил мальчик и встал. Люди плакали. Он пошёл им навстречу и закричал: «Встань в стремя! Встань в стремя!» Услышав эти слова, люди обрадовались, заулыбались и окружили мальчика тесным кольцом. «Встань в стремя! Ведь это значит: Будь готов к дороге! – говорили они. – Наше спасение – в дороге. Он поедет. Он нас спасёт». Мальчику дали белые идики, халат из белого шёлка и шапку из белого соболя, посадили на красного коня с чёрными глазами, нагрузили белого верблюда самой разной едой и сказали: «На этой земле высохла вся вода. Половина людей умрёт, половина скота умрёт. Не высохло только дно Успа-моря. Много людей туда ездили за водой, но никто не вернулся. Сто войск хана туда ездили, но и они не вернулись. Вернуться оттуда может только человек, который готов к дороге, который сказал: «Встань в стремя!» Поэтому ты должен ехать к Успа-морю. И мальчик поехал на юг. Он ел пищу, которую вёз белый верблюд и думал: «Всё-таки мой отец – злой человек. Зачем мне эти три слова? С ними мне пропадать! Разве я вернусь оттуда? Там погибло столько людей! Лучше бы я продал монету одному из китайцев!» Скоро он увидел вдоль дороги много белых костей. Потом он увидел горы белых костей и горы человеческих тел. В некоторых телах ещё теплилась жизнь, у некоторых ещё шевелился один палец. И вот показалось Успа-море. Вода в нём так высохла, что осталась только на самом дне, черпать её можно было только ковшом. Мальчик напился сам, потом напоил коня и верблюда. И начал наполнять кувшины, которые нёс верблюд. Но не успел он налить даже половину кувшина, как за его спиной кто-то сказал: «Пора». Он обернулся и увидел, что кто-то занёс саблю над его головой: «Что ты, друг? Сути не узнав, не показывай нрав!», - сказал мальчик второе купленное им слово. Тогда человек подхватил его и понёс, и мальчик увидел, что он – у дверей белой юрты. «Заходи в юрту». Мальчик вошёл. Перед ним сидела Сияющая красавица с опухшими, заплаканными глазами. «Живите в мире!» - сказал он, истратив последнее волшебное слово. Заулыбалась красавица и накормила мальчика самой вкусной едой. Человек, стоявший снаружи, опустил саблю в ножны, вошёл в юрту и спросил: «Откуда ты пришёл, добрый властелин, у кого желание совпадает с дорогой, а дорога – с желанием?» - «Я пришёл оттуда, где не растёт трава, где нет воды, где всё высохло. Я пришёл чтобы помочь людям». – «На дне Успа-моря бьёт аржан, вечный источник. Наполняй свои кувшины». И мальчик оказался на прежнем месте, у моря. Он наполнил аржан-водой все кувшины, навьючил их на верблюда и на коня и поехал назад. Скоро над этой землёй пошёл долгий, обильный дождь. Мальчик подъехал к аалу хана. Ханская шивишкин выглянула из юрты и говорит: «Вернулся мальчик, который ездил на Успа-море за водой. Он везёт полные кувшины». – «Ха-ха-ха! Ну и глупец! – рассмеялся хан – Везёт издалека воду, когда кругом столько воды! Он привёз полные кувшины? Вылить их на землю!» Сын хана подбежал к верблюду и коню и увидел, что вся посуда наполнена аржан-водой. Он вылил её на землю. На тех местах, куда попала аржан-вода, сразу выросли крупные, сочные ягоды. Подбежали люди. Сняли с мальчика хорошую одежду, надели лохмотья и прогнали. Он пошёл назад, на север. В одной лощине росло много гусиных лапок. Они были длинные, толстые. Мальчик сделал из их стеблей чум и ел их корни. Так и жил. Слушайте дальше. Великий правитель вызвал к себе хана и его сына. «Почему вы сделали так, что на вашей земле исчезла вода? Придётся снять ваши головы». «Простите, о владыка, - сказал хан, - как мы можем сделать, чтобы вода исчезла? Она сама исчезла. Ходил здесь оборванец, который говорил: «Встань в стремя!» Его отправили за водой на Успа-море. Когда он привёз воды, пошёл проливной дождь, взошли травы. А теперь опять нет воды…» - «Где, где этот мальчик?!» - «Не знаем». – «Разыскать немедленно! Привести ко мне! А если мальчика здесь не будет – головы ваши сниму вместе с шапками, руки оторву вместе с рукавами!» Владыка заключил сына хана в чёрную юрту, а хана отправил на поиски оборванного мальчика. Хан взял с собой тридцать человек и пошёл по степи, по холмам, по горам. В ложбине, в чуме из стеблей гусиных лапок они нашли мальчика. Он лежал и ел корни гусиных лапок. «Вставай, почему лежишь, Когда тебя сам Великий правитель зовёт?!» - надменно закричал хан. «Я не пойду к нему». – «А если он сам идти не хочет – вяжите его!» Мальчик вскочил, захватил побольше пыли и бросил её в глаза ханским слугам. Они ослепли. Хан едва ушёл, вернулся к Великому правителю и рассказал ему обо всём. Тогда правитель поехал сам. Он двумя руками почтительно протянул мальчику большой белый кадак. Мальчик взял толстый травяной стебель и почтительно протянул его правителю. «В этом мире, в котором я правлю, ты приносишь большую пользу», - сказал Великий правитель. Он дал мальчику в жёны Сияющую красавицу, излучающую свет солнца и луны. А хану и его сыну отрубил головы». Этими словами Уран-Дойду закончил свою сказку. Невестка сразу же засуетилась, и начала собираться.
(продолжение следует...) | ||
| Автор: RIDDICK | Вот это да))) Супер! П.С. Попугаи-красота неимоверная! | ||
| Автор: Chanda | Уран-Дойду одарённый попугай (окончание) - Постойте, не уходите, вот ещё одна интересная сказка, - сказал Уран-Дойду, одарённый попугай. И начал: «Прежде былого это было. Жил на свете Сарын-хан. И был у него резвый дикий конь. Никто не мог поймать этого коня. Однажды хан приказал, чтобы привели к нему человека, который выучился китайскому волшебству. Этот человек пришёл. Хан насмешливо на него посмотрел. «Говорят, ты выучился волшебству? Ишь, какой волшебник! Ха-ха-ха! Почему же я не вижу твоего волшебства? Если ты настоящий волшебник, сделай что-нибудь прямо здесь, на моих глазах!» - «Хорошо, хан, я покажу вам своё волшебство. А долго ли показывать?» - «Давай до самого обеда. Мне до обеда нечем заняться. Вот я и посмотрю». – «О нет, хан, если я буду показывать своё волшебство до самого обеда, вы не выдержите. Давайте лучше так: налейте горячего чая в золотую пиалу и поставьте её на столик, который стоит перед вами. Пока остывает чай, пока идёт от него пар, я буду показывать волшебство». Хан согласился. Он налил чаю и поставил золотую пиалу перед собой. Волшебник внимательно посмотрел на хана. Хан отвёл глаза и посмотрел на чай. Вдруг он услыхал громкий шум. Оказалось, что его слуги пригнали к дворцу дикого неуловимого коня, которого никто уже многие годы не мог поймать. Хан обрадовался, забыл про волшебника и выскочил из дворца. Он увидел, что все слуги, весь народ и даже его жена, которая три года болела, не вставала, - все бегают за неуловимым конём. Хан тоже стал бегать со всеми. Но вот наконец коня окружили и поймали. «Скорее садись на него!» - крикнула ханша. Хан сел. Конь рванулся и понёс хана на юг. Рысью шёл, мягко шёл, суставы тростника ногами не ломал. Вот как шёл! И остановился на пустынном берегу бушующего моря. И вдруг он встал на дыбы, сбросил хана и ускакал. Хан остался совсем один на двух своих слабых ногах. Куда идти? Что есть? Он был очень голоден и подумал: «Хорошо бы поймать в море хоть одну рыбку». Вдруг перед ним появилась безносая старуха. «Куда девался народ этой земли?» - спросил хан. «Я на этой земле никогда не слыхала о народе». – «Где же ты живёшь, где твой аал, что ты ешь?» - «Здесь и живу, вон там – мой чум. Ловлю полевых мышей, копаю корни гусиных лапок – этим и живу». – «А что, разве здесь нет коней?» - «Я не знаю, что такое конь. Мыши, суслики – это я знаю. А про коней не слыхала». – «Что ж, пойдём к твоему чуму». Безносая старуха повела хана к чуму. В чуме ему понравилось. Там было чисто, прибрано. И Сарын-хан женился на безносой старухе. Через год она родила удивительно красивого мальчика. Ещё через год – второго, а потом и третьего. Хан и старуха очень любили своих сыновей. Однажды Сарын-хан пошёл в степь ставить петли на сусликов. Вдруг он обернулся и увидел: старшие братья взяли маленького за руки и пошли к морю. «Вернитесь! Вернитесь!!» - закричала старуха и побежала за ними. Хан бросил свои петли и тоже побежал со всех ног. Но пока они бежали, мальчики подошли к самой воде, и море своими волнами схватило по очереди одного, второго и третьего. Старуха прыгнула в волны вслед за детьми и тоже не вернулась. Хан остался совсем один. Он сидел на пустынном берегу и не знал, что ему теперь делать, куда идти и надо ли куда-нибудь идти. Обильные слёзы текли у него из глаз. «Ну что, хан, может быть, хватит?» - раздался вдруг над ним человеческий голос. Хан вздрогнул, поднял глаза и увидел волшебника. Оказалось, что он сидит в своём дворце за столиком. Перед ним стоит чай в золотой пиале. Хан смотрит на этот чай, а из глаз его текут слёзы. Хан попробовал чай – он был ещё тёплый. «Ну вот, хан, я и показал вам своё волшебство. Ещё не успел остыть чай в золотой пиале. А если бы я показывал вам волшебство до самого обеда, вы бы не выдержали. Вы не вставали со своего места, а казалось вам, что скакали на коне. А то, что вам казалось бушующим морем, - то был чай в золотой пиале» «. Этими словами Уран-Дойду, одарённый попугай закончил свою сказку. И тут приехал его старший брат, Сарыылдыг-дужумет. Хитрая красавица так никуда и не ушла. | ||
| Автор: Chanda |
Моей заслуги в этом нет. К сожалению рисовать не умею. Это работа Zeng Xiao Lian. | ||
| Автор: Chanda | |||
| Автор: Chanda | Д. Н. Мамин-Сибиряк СКАЗКА О ТОМ,
КАК ЖИЛА-БЫЛА ПОСЛЕДНЯЯ МУХА
(ИЗ сборника «Алёнушкины сказки»)
I
Как было весело летом!.. Ах, как весело! Трудно даже рассказать все по порядку... Сколько было мух, - тысячи. Летают, жужжат, веселятся... Когда родилась маленькая Мушка, расправила свои крылышки, ей сделалось тоже весело. Так весело, так весело, что не расскажешь. Всего интереснее было то, что с утра открывали все окна и двери на террасу - в какое хочешь, в то окно и лети. - Какое доброе существо человек, - удивлялась маленькая Мушка, летая из окна в окно. - Это для нас сделаны окна, и отворяют их тоже для нас. Очень хорошо, а главное - весело... Она тысячу раз вылетала в сад, посидела на зеленой травке, полюбовалась цветущей сиренью, нежными листиками распускавшейся липы и цветами в клумбах. Неизвестный ей до сих пор садовник уже успел вперед позаботиться обо всем. Ах, какой он добрый, этот садовник!.. Мушка еще не родилась, а он уже все успел приготовить, решительно все, что нужно маленькой Мушке. Это было тем удивительнее, что сам он не умел летать и даже ходил иногда с большим трудом - его так и покачивало, и садовник что-то бормотал совсем непонятное. - И откуда только эти проклятые мухи берутся? - ворчал добрый садовник. Вероятно, бедняга говорил это просто из зависти, потому что сам умел только копать гряды, рассаживать цветы и поливать их, а летать не мог. Молодая Мушка нарочно кружилась над красным носом садовника и страшно ему надоедала. Потом, люди вообще так добры, что везде доставляли разные удовольствия именно мухам. Например, Аленушка утром пила молочко, ела булочку и потом выпрашивала у тети Оли сахару, - все это она делала только для того, чтобы оставить мухам несколько капелек пролитого молока, а главное - крошки булки и сахара. Ну скажите, пожалуйста, что может быть вкуснее таких крошек, особенно когда летаешь все утро и проголодаешься?.. Потом, кухарка Паша была еще добрее Аленушки. Она каждое утро нарочно для мух ходила на рынок и приносила удивительно вкусные вещи: говядину, иногда рыбу, сливки, масло, - вообще самая добрая женщина во всем доме. Она отлично знала, что нужно мухам, хотя летать тоже не умела, как и садовник. Очень хорошая женщина вообще! А тетя Оля? О, эта чудная женщина, кажется, специально жила только для мух... Она своими руками открывала все окна каждое утро, чтобы мухам было удобнее летать, а когда шел дождь или было холодно, закрывала их, чтобы мухи не замочили своих крылышек и не простудились. Потом тетя Оля заметила, что мухи очень любят сахар и ягоды, поэтому она принялась каждый день варить ягоды в сахаре. Мухи сейчас, конечно, догадались, для чего это все делается, и лезли из чувства благодарности прямо в тазик с вареньем. Аленушка очень любила варенье, но тетя Оля давала ей всего одну или две ложечки, не желая обижать мух. Так как мухи за раз не могли съесть всего, то тетя Оля откладывала часть варенья в стеклянные банки (чтобы не съели мыши, которым варенья совсем не полагается) и потом подавала его каждый день мухам, когда пила чай. - Ах, какие все добрые и хорошие! - восхищалась молодая Мушка, летая из окна в окно. - Может быть, даже хорошо, что люди не умеют летать. Тогда бы они превратились в мух, больших и прожорливых мух, и, наверное, съели бы все сами... Ах, как хорошо жить на свете! - Ну, люди уж не совсем такие добряки, как ты думаешь, - заметила старая Муха, любившая поворчать. - Это только так кажется... Ты обратила внимание на человека, которого все называют "папой"? - О да... Это очень странный господин. Вы совершенно правы, хорошая, добрая старая Муха... Для чего он курит свою трубку, когда отлично знает, что я совсем не выношу табачного дыма? Мне кажется, что это он делает прямо назло мне... Потом, решительно ничего не хочет сделать для мух. Я раз попробовала чернил, которыми он что-то такое вечно пишет, и чуть не умерла... Это наконец возмутительно! Я своими глазами видела, как в его чернильнице тонули две такие хорошенькие, но совершенно неопытные мушки. Это была ужасная картина, когда он пером вытащил одну из них и посадил на бумагу великолепную кляксу... Представьте себе, он в этом обвинял не себя, а нас же! Где справедливость?.. - Я думаю, что этот папа совсем лишен справедливости, хотя у него есть одно достоинство... - ответила старая, опытная Муха. - Он пьет пиво после обеда. Это совсем недурная привычка! Я, признаться, тоже не прочь выпить пива, хотя у меня и кружится от него голова... Что делать, дурная привычка! - И я тоже люблю пиво, - призналась молоденькая Мушка и даже немного покраснела. - Мне делается от него так весело, так весело, хотя на другой день немного и болит голова. Но папа, может быть, оттого ничего не делает для мух, что сам не ест варенья, а сахар опускает только в стакан чаю. По-моему, нельзя ждать ничего хорошего от человека, который не ест варенья... Ему остается только курить свою трубку. Мухи вообще отлично знали всех людей, хотя и ценили их по-своему.
II
Лето стояло жаркое, и с каждым днем мух являлось все больше и больше. Они падали в молоко, лезли в суп, в чернильницу, жужжали, вертелись и приставали ко всем. Но наша маленькая Мушка успела сделаться уже настоящей большой мухой и несколько раз чуть не погибла. В первый раз она увязла ножками в варенье, так что едва выползла; в другой раз спросонья налетела на зажженную лампу и чуть не спалила себе крылышек; в третий раз чуть не попала между оконных створок, - вообще приключений было достаточно. - Что это такое: житья от этих мух не стало!.. - жаловалась кухарка. - Точно сумасшедшие, так и лезут везде... Нужно их изводить. Даже наша Муха начала находить, что мух развелось слишком много, особенно в кухне. По вечерам потолок покрывался точно живой, двигавшейся сеткой. А когда приносили провизию, мухи бросались на нее живой кучей, толкали друг друга и страшно ссорились. Лучшие куски доставались только самым бойким и сильным, а остальным доставались объедки. Паша была права. Но тут случилось нечто ужасное. Раз утром Паша вместе с провизией принесла пачку очень вкусных бумажек - то есть они сделались вкусными, когда их разложили на тарелочки, обсыпали мелким сахаром и облили теплой водой. - Вот отличное угощенье мухам! - говорила кухарка Паша, расставляя тарелочки на самых видных местах. Мухи и без Паши догадались, что это делается для них, и веселой гурьбой накинулись на новое кушанье. Наша Муха тоже бросилась к одной тарелочке, но ее оттолкнули довольно грубо. - Что вы толкаетесь, господа? - обиделась она. - А впрочем, я уж не такая жадная, чтобы отнимать что-нибудь у других. Это, наконец, невежливо... Дальше произошло что-то невозможное. Самые жадные мухи поплатились первыми... Они сначала бродили, как пьяные, а потом и совсем свалились. Наутро Паша намела целую большую тарелку мертвых мух. Остались живыми только самые благоразумные, а в том числе и наша Муха. - Не хотим бумажек! - пищали все. - Не хотим... Но на следующий день повторилось то же самое. Из благоразумных мух остались целыми только самые благоразумные. Но Паша находила, что слишком много и таких, самых благоразумных. - Житья от них нет... - жаловалась она. Тогда господин, которого звали папой, принес три стеклянных, очень красивых колпака, налил в них пива и поставил на тарелочки... Тут попались и самые благоразумные мухи. Оказалось, что эти колпаки просто мухоловки. Мухи летели на запах пива, попадали в колпак и там погибали, потому что не умели найти выхода. - Вот теперь отлично!.. - одобряла Паша; она оказалась совершенно бессердечной женщиной и радовалась чужой беде. Что же тут отличного, посудите сами. Если бы у людей были такие же крылья, как у мух, и если бы поставить мухоловки величиной с дом, то они попадались бы точно так же... Наша Муха, наученная горьким опытом даже самых благоразумных мух, перестала совсем верить людям. Они только кажутся добрыми, эти люди, а в сущности только тем и занимаются, что всю жизнь обманывают доверчивых бедных мух. О, это самое хитрое и злое животное, если говорить правду!.. Мух сильно поубавилось от всех этих неприятностей, а тут новая беда. Оказалось, что лето прошло, начались дожди, подул холодный ветер, и вообще наступила неприятная погода. - Неужели лето прошло? - удивлялись оставшиеся в живых мухи. - Позвольте, когда же оно успело пройти? Это наконец несправедливо... Не успели оглянуться, а тут осень. Это было похуже отравленных бумажек и стеклянных мухоловок. От наступавшей скверной погоды можно было искать защиты только у своего злейшего врага, то есть господина человека. Увы! Теперь уже окна не отворялись по целым дням, а только изредка - форточки. Даже само солнце и то светило точно для того только, чтобы обманывать доверчивых комнатных мух. Как вам понравится, например, такая картина? Утро. Солнце так весело заглядывает во все окна, точно приглашает всех мух в сад. Можно подумать, что возвращается опять лето... И что же, - доверчивые мухи вылетают в форточку, но солнце только светит, а не греет. Они летят назад - форточка закрыта. Много мух погибло таким образом в холодные осенние ночи только благодаря своей доверчивости. - Нет, я не верю, - говорила наша Муха. - Ничему не верю... Если уж солнце обманывает, то кому же и чему можно верить? Понятно, что с наступлением осени все мухи испытывали самое дурное настроение духа. Характер сразу испортился почти у всех. О прежних радостях не было и помину. Все сделались такими хмурыми, вялыми и недовольными. Некоторые дошли до того, что начали даже кусаться, чего раньше не было. У нашей Мухи до того испортился характер, что она совершенно не узнавала самой себя. Раньше, например, она жалела других мух, когда те погибали, а сейчас думала только о себе. Ей было даже стыдно сказать вслух, что она думала: "Ну и пусть погибают - мне больше достанется". Во-первых, настоящих теплых уголков, в которых может прожить зиму настоящая, порядочная муха, совсем не так много, а во-вторых, просто надоели другие мухи, которые везде лезли, выхватывали из-под носа самые лучшие куски и вообще вели себя довольно бесцеремонно. Пора и отдохнуть. Эти другие мухи точно понимали эти злые мысли и умирали сотнями. Даже не умирали, а точно засыпали. С каждым днем их делалось все меньше и меньше, так что совершенно было не нужно ни отравленных бумажек, ни стеклянных мухоловок. Но нашей Мухе и этого было мало: ей хотелось остаться совершенно одной. Подумайте, какая прелесть - пять комнат, и всего одна муха!..
III
Наступил и такой счастливый день. Рано утром наша Муха проснулась довольно поздно. Она давно уже испытывала какую-то непонятную усталость и предпочитала сидеть неподвижно в своем уголке, под печкой. А тут она почувствовала, что случилось что-то необыкновенное. Стоило подлететь к окну, как все разъяснилось сразу. Выпал первый снег... Земля была покрыта ярко белевшей пеленой. - А, так вот какая бывает зима! - сообразила она сразу. - Она совсем белая, как кусок хорошего сахара... Потом Муха заметила, что все другие мухи исчезли окончательно. Бедняжки не перенесли первого холода и заснули кому где случилось. Муха в другое время пожалела бы их, а теперь подумала: "Вот и отлично... Теперь я совсем одна!.. Никто не будет есть моего варенья, моего сахара, моих крошечек... Ах, как хорошо!.. " Она облетела все комнаты и еще раз убедилась, что она совершенно одна. Теперь можно было делать решительно все, что захочется. А как хорошо, что в комнатах так тепло! Зима там, на улице, а в комнатах и тепло и уютно, особенно когда вечером зажигали лампы и свечи. С первой лампой, впрочем, вышла маленькая неприятность - Муха налетела было опять на огонь и чуть не сгорела. - Это, вероятно, зимняя ловушка для мух, - сообразила она, потирая обожженные лапки. - Нет, меня не проведете... О, я отлично все понимаю!.. Вы хотите сжечь последнюю муху? А я этого совсем не желаю... Тоже вот и плита в кухне - разве я не понимаю, что это тоже ловушка для мух!.. Последняя Муха была счастлива всего несколько дней, а потом вдруг ей сделалось скучно, так скучно, так скучно, что, кажется, и не рассказать. Конечно, ей было тепло, она была сыта, а потом, потом она стала скучать. Полетает, полетает, отдохнет, поест, опять полетает - и опять ей делается скучнее прежнего. - Ах, как мне скучно! - пищала она самым жалобным тоненьким голосом, летая из комнаты в комнату. - Хоть бы одна была мушка еще, самая скверная, а все-таки мушка... Как ни жаловалась последняя Муха на свое одиночество, - ее решительно никто не хотел понимать. Конечно, это ее злило еще больше, и она приставала к людям как сумасшедшая. Кому на нос сядет, кому на ухо, а то примется летать перед глазами взад и вперед. Одним словом, настоящая сумасшедшая. - Господи, как же вы не хотите понять, что я совершенно одна и что мне очень скучно? - пищала она каждому. - Вы даже и летать не умеете, а поэтому не знаете, что такое скука. Хоть бы кто-нибудь поиграл со мной... Да нет, куда вам? Что может быть неповоротливее и неуклюжее человека? Самая безобразная тварь, какую я когда-нибудь встречала... Последняя Муха надоела и собаке и кошке - решительно всем. Больше всего ее огорчило, когда тетя Оля сказала: - Ах, последняя муха... Пожалуйста, не трогайте ее. Пусть живет всю зиму. Что же это такое? Это уж прямое оскорбление. Ее, кажется, и за муху перестали считать. "Пусть поживет", - скажите, какое сделали одолжение! А если мне скучно! А если я, может быть, и жить совсем не хочу? Вот не хочу - и все тут". Последняя Муха до того рассердилась на всех, что даже самой сделалось страшно. Летает, жужжит, пищит... Сидевший в углу Паук наконец сжалился над ней и сказал: - Милая Муха, идите ко мне... Какая красивая у меня паутина! - Покорно благодарю... Вот еще нашелся приятель! Знаю я, что такое твоя красивая паутина. Наверно, ты когда-нибудь был человеком, а теперь только притворяешься пауком. - Как знаете, я вам же добра желаю. - Ах, какой противный! Это называется - желать добра: съесть последнюю Муху!.. Они сильно повздорили, и все-таки было скучно, так скучно, так скучно, что и не расскажешь. Муха озлобилась решительно на всех, устала и громко заявила: - Если так, если вы не хотите понять, как мне скучно, так я буду сидеть в углу целую зиму!.. Вот вам!.. Да, буду сидеть и не выйду ни за что... Она даже всплакнула с горя, припоминая минувшее летнее веселье. Сколько было веселых мух; а она еще желала остаться совершенно одной. Это была роковая ошибка... Зима тянулась без конца, и последняя Муха начала думать, что лета больше уже не будет совсем. Ей хотелось умереть, и она плакала потихоньку. Это, наверно, люди придумали зиму, потому что они придумывают решительно все, что вредно мухам. А может быть, это тетя Оля спрятала куда-нибудь лето, как прячет сахар и варенье?.. Последняя Муха готова была совсем умереть с отчаяния, как случилось нечто совершенно особенное. Она, по обыкновению, сидела в своем уголке и сердилась, как вдруг слышит: ж-ж-жж!.. Сначала она не поверила собственным ушам, а подумала, что ее кто-нибудь обманывает. А потом... Боже, что это было!.. Мимо нее пролетела настоящая живая мушка, еще совсем молоденькая. Она только что успела родиться и радовалась. - Весна начинается!.. весна! - жужжала она. Как они обрадовались друг другу! Обнимались, целовались и даже облизывали одна другую хоботками. Старая Муха несколько дней рассказывала, как скверно провела всю зиму и как ей было скучно одной. Молоденькая Мушка только смеялась тоненьким голоском и никак не могла понять, как это было скучно. - Весна! весна!.. - повторяла она. Когда тетя Оля велела выставить все зимние рамы и Аленушка выглянула в первое открытое окно, последняя Муха сразу все поняла. - Теперь я знаю все, - жужжала она, вылетая в окно, - лето делаем мы, мухи... | ||
| Автор: Chanda | Герберт Уэллс. Волшебная лавка
Пер. - К.Чуковский.
Издали мне случалось видеть эту волшебную лавку и раньше. Раза два я проходил мимо ее витрины, где было столько привлекательных товаров: волшебные шары, волшебные куры, чудодейственные колпаки, куклы для чревовещателей, корзины с аппаратурой для фокусов, колоды карт, с виду совсем обыкновенные, и тому подобная мелочь. Мне и в голову не приходило зайти в эту лавку. Но вот однажды Джип взял меня за палец и, ни слова не говоря, потащил к витрине; при этом он вел себя так, что не войти с ним туда было никак невозможно. По правде говоря, я и не думал, что эта скромная лавчонка находится именно здесь, на Риджент-стрит, между магазином, где продаются картины, и заведением, где выводятся цыплята в патентованных инкубаторах. Но это была она. Мне почему-то казалось, что она ближе к Сэркус, или за углом на Оксфорд-стрит, или даже в Холборне, и всегда я видел ее на другой стороне улицы, так что к ней было не подойти, и что-то в ней было неуловимое, что-то похожее на мираж. Но вот она здесь, в этом нет никаких сомнений, и пухлый указательный пальчик Джипа стучит по ее витрине. - Будь я богат, - сказал Джип, тыча пальцем туда, где лежало "Исчезающее яйцо", - я купил бы себе вот это. И это. - Он указал на "Младенца, плачущего совсем как живой". - И это. То был таинственный предмет, который назывался: "Купи и удивляй друзей!" - как значилось на аккуратном ярлычке. - А под этим колпаком, - сказал Джип, - пропадает все, что ни положи. Я читал об этом в одной книге... А вон, папа, "Неуловимый грошик", только его так положили, чтобы не видно было, как это делается. Джип унаследовал милые черты своей матушки: он не звал меня в лавку и не надоедал приставаниями, он только тянул меня за палец по направлению к двери - совершенно бессознательно, - и было яснее ясного, чего ему хочется. - Вот! - сказал он и указал на "Волшебную бутылку". - А если б она у тебя была? - спросил я. И, услыхав в этом вопросе обещание, Джип просиял. - Я показал бы ее Джесси! - ответил он, полный, как всегда, заботы о других. - До дня твоего рождения осталось меньше ста дней, Джип, - сказал я и взялся за ручку двери. Джип не ответил, но еще сильнее сжал мой палец, и мы вошли в лавку. Это была не простая лавка, это была лавка волшебная. И потому Джип не проследовал к прилавку впереди меня, как при покупке обыкновенных игрушек. Здесь он всю тяжесть переговоров возложил на меня. Это была крошечная, тесноватая полутемная лавчонка, и дверной колокольчик задребезжал жалобным звоном, когда мы захлопнули за собой дверь. В лавчонке никого не оказалось, и мы могли оглядеться. Вот тигр из папье-маше на стекле, покрывающем невысокий прилавок, - степенный, добродушный тигр, размеренно качающий головой; вот хрустальные шары всех видов; вот фарфоровая рука с колодой волшебных карт; вот целый набор разнокалиберных волшебных аквариумов; вот нескромная волшебная шляпа, бесстыдно выставившая напоказ все свои пружины. Кругом было несколько волшебных зеркал. Одно вытягивало и суживало вас, другое отнимало у вас ноги и расплющивало вашу голову, третье делало из вас какую-то круглую, толстую чурку. И пока мы хохотали перед этими зеркалами, откуда-то появился какой-то мужчина, очевидно, хозяин. Впрочем, кто бы он ни был, он стоял за прилавком, странный, темноволосый, бледный. Одно ухо было у него больше другого, а подбородок - как носок башмака. - Чем могу служить? - спросил он и растопырил свои длинные волшебные пальцы по стеклу прилавка. Мы вздрогнули, потому что не подозревали о его присутствии. - Я хотел бы купить моему малышу какую-нибудь игрушку попроще, - сказал я. - Фокусы? - спросил он. - Ручные? Механические? - Что-нибудь позабавнее, - ответил я. - Гм... - произнес продавец и почесал голову, как бы размышляя. И прямо у нас на глазах вынул у себя из головы стеклянный шарик. - Что-нибудь в таком роде? - спросил он и протянул его мне. Это было неожиданно. Много раз мне случалось видеть такой фокус на эстраде - без него не обойдется ни один фокусник средней руки, - но здесь я этого не ожидал. - Недурно! - сказал я со смехом. - Не правда ли? - заметил продавец. Джип отпустил мой палец и потянулся за стеклянным шариком, но в руках продавца ничего не оказалось. - Он у вас в кармане, - сказал продавец, и действительно, шарик был там. - Сколько за шарик? - спросил я. - За стеклянные шарики мы денег не берем, - любезно ответил продавец. - Они достаются нам, - тут он поймал еще один шарик у себя на локте, - даром. Третий шарик он поймал у себя на затылке и положил его на прилавок рядом с предыдущим. Джип, не торопясь, оглядел свой шарик, потом те, что лежали на прилавке, потом обратил вопрошающий взгляд на продавца. - Можете взять себе и эти, - сказал тот, улыбаясь, - а также, если не брезгуете, еще один, изо рта. Вот! Джип взглянул на меня, ища совета, потом в глубочайшем молчании сгреб все четыре шарика, опять ухватился за мой успокоительный палец и приготовился к дальнейшим событиям. - Так мы приобретаем весь наш товар, какой помельче, - объяснил продавец. Я засмеялся и, подхватив его остроту, сказал: - Вместо того, чтобы покупать их на складе? Оно, конечно, дешевле. - Пожалуй, - ответил продавец. - Хотя в конце концов и нам приходится платить, но не так много, как думают иные. Товары покрупнее, а также пищу, одежду и все, что нам нужно, мы достаем вот из этой шляпы... И позвольте мне заверить вас, сэр, что на свете совсем не бывает оптовых складов настоящих волшебных товаров. Вы, верно, изволили заметить нашу марку: "Настоящая волшебная лавка". Он вытащил из-за щеки прейскурант и подал его мне. - Настоящая, - сказал он, указывая пальцем на это слово, и прибавил: - У нас без обмана, сэр. У меня мелькнула мысль, что его шутки не лишены последовательности. Потом он обратился к Джипу с ласковой улыбкой: - А ты, знаешь ли, Неплохой Мальчуган... Я удивился, не понимая, откуда он мог догадаться. В интересах дисциплины мы держим это в секрете даже в домашнем кругу. Джип выслушал похвалу молча и продолжал смотреть на продавца. - Потому что только хорошие мальчики могут пройти в эту дверь. И тотчас же, как бы в подтверждение, раздался стук в дверь и послышался пискливый голосок: - И-и! Я хочу войти туда, папа! Папа, я хочу войти! И-и-и! И уговоры измученного папаши: - Но ведь заперто, Эдуард, нельзя! - Совсем не заперто! - сказал я. - Нет, сэр, у нас всегда заперто для таких детей, - сказал продавец, и при этих словах мы увидели мальчика: крошечное личико, болезненно-бледное от множества поедаемых лакомств, искривленное от вечных капризов, личико бессердечного маленького себялюбца, царапающего заколдованное стекло. - Не поможет, сэр, - сказал торговец, заметив, что я со свойственной мне услужливостью шагнул к двери. Скоро хнычущего избалованного мальчика увели. - Как это у вас делается? - спросил я, переводя дух. - Магия! - ответил продавец, небрежно махнув рукой. И - ах! - из его пальцев вылетели разноцветные искры и погасли в полутьме магазина. - Ты говорил там, на улице, - сказал продавец, обращаясь к Джипу, - что хотел бы иметь нашу коробку "Купи и удивляй друзей"! - Да, - признался Джип после героической внутренней борьбы. - Она у тебя в кармане. И, перегнувшись через прилавок (тело у него оказалось необычайной длины), этот изумительный субъект с ужимками заправского фокусника вытащил у Джипа из кармана коробку. - Бумагу! - сказал он и достал большой лист из пустой шляпы с пружинами. - Бечевку! - И во рту у него оказался клубок бечевки, от которого он отмотал бесконечно длинную нить, перевязал ею сверток, перекусил зубами, а клубок, как мне показалось, проглотил. Потом об нос одной из чревовещательных кукол зажег свечу, сунул в огонь палец (который тотчас же превратился в палочку красного сургуча) и запечатал покупку. - Вам еще понравилось "Исчезающее яйцо", - заметил он, вытаскивая это яйцо из внутреннего кармана моего пальто, и завернул его в бумагу вместе с "Младенцем, плачущим совсем как живой". Я передавал каждый готовый сверток Джипу, а тот крепко прижимал его к груди. Джип говорил очень мало, но глаза его были красноречивы, красноречивы были его руки, обхватившие подарки. Его душой овладело невыразимое волнение. Поистине это была настоящая магия. Но тут я вздрогнул, почувствовав, что у меня под шляпой шевелится что-то мягкое, трепетное. Я схватился за шляпу, и голубь с измятыми перьями выпорхнул оттуда, побежал по прилавку и шмыгнул, кажется, в картонную коробку позади тигра из папье-маше. - Ай, ай, ай! - сказал продавец, ловким движением отбирая у меня головной убор. - Скажите, пожалуйста, эта глупая птица устроила здесь гнездо!.. И он стал трясти мою шляпу, вытряхнул оттуда два или три яйца, мраморный шарик, часы, с полдюжины неизбежных стеклянных шариков и скомканную бумагу, потом еще бумагу, еще и еще, все время распространяясь о том, что очень многие совершенно напрасно чистят свои шляпы только сверху и забывают почистить их внутри, - все это, разумеется, очень вежливо, но не без личных намеков. - Накапливается целая куча мусора, сэр... Конечно, не у вас одного... Чуть не у каждого покупателя... Чего только люди не носят с собой! Мятая бумага росла, и вздымалась на прилавке все выше и выше, и совсем заслонила его от нас. Только голос его раздавался по-прежнему: - Никто из нас не знает, что скрывается иногда за благообразной внешностью человека, сэр. Все мы - только одна видимость, только гробы повапленные... Его голос замер, точь-в-точь как у ваших соседей замер бы граммофон, если бы вы угодили в него ловко брошенным кирпичом, - такое же внезапное молчание. Шуршание бумаги прекратилось, и стало тихо. - Вам больше не нужна моя шляпа? - спросил я наконец. Ответа не было. Я поглядел на Джипа, Джип поглядел на меня, и в волшебных зеркалах отразились наши искаженные лица - загадочные, серьезные, тихие. - Я думаю, нам пора! - сказал я. - Будьте добры, скажите, сколько с нас следует... Послушайте, - сказал я, повышая голос, - я хочу расплатиться... И, пожалуйста, мою шляпу... Из-за груды бумаг как будто послышалось сопение. - Он смеется над нами! - сказал я. - Ну-ка, Джип, поглядим за прилавок. Мы обошли тигра, качающего головой. И что же? За прилавком никого не оказалось. На полу валялась моя шляпа, а рядом с нею в глубокой задумчивости, съежившись, сидел вислоухий белый кролик - самый обыкновенный, глупейшего вида кролик, как раз такой, какие бывают только у фокусников. Я нагнулся за шляпой - кролик отпрыгнул от меня. - Папа! - шепнул Джип виновато. - Что? - Мне здесь нравятся, папа. "И мне тоже нравилось бы, - подумал я, - если бы этот прилавок не вытянулся вдруг, загораживая нам выход". Я не сказал об этом Джипу. - Киска! - произнес он и протянул руку к кролику. - Киска, покажи Джипу фокус! Кролик шмыгнул в дверь, которой я там раньше почему-то не видел, и в ту же минуту оттуда опять показался человек, у которого одно ухо было длиннее другого. Он по-прежнему улыбался, но когда наши глаза встретились, я заметил, что его взгляд выражает не то вызов, не то насмешку. - Не угодно ли осмотреть нашу выставку, сэр? - как ни в чем не бывало сказал он. Джип потянул меня за палец. Я взглянул на прилавок, потом на продавца, и глаза наши снова встретились. Я уже начинал думать, что волшебство здесь, пожалуй, слишком уж подлинное. - К сожалению, у нас не очень много времени, - начал я. Но мы уже находились в другой комнате, где была выставка образцов. - Все товары у нас одного качества, - сказал продавец, потирая гибкие руки, - самого высшего. Настоящая магия, без обмана, другой не держим! С ручательством... Прошу прощения, сэр! Я почувствовал, как он отрывает что-то от моего рукава, и, оглянувшись, увидел, что он держит за хвост крошечного красного чертика, а тот извивается, и дергается, и норовит укусить его за руку. Продавец беспечно швырнул его под прилавок. Конечно, чертик был резиновый, но на какое-то мгновение... И держал он его так, как держат в руках какую-нибудь кусачую гадину. Я посмотрел на Джипа, но его взгляд был устремлен на волшебную деревянную лошадку. У меня отлегло от сердца. - Послушайте, - сказал я продавцу, понижая голос и указывая глазами то на Джипа, то на красного чертика, - надеюсь, у вас не слишком много таких... изделий, не правда ли? - Совсем не держим! Должно быть, вы занесли его с улицы, - сказал продавец, тоже понизив голос и с еще более ослепительной улыбкой. - Чего только люди не таскают с собой, сами того не зная! Потом он обратился к Джипу: - Нравится тебе тут что-нибудь? Джипу многое нравилось. С доверчивой почтительностью обратившись к чудесному продавцу, он спросил: - А эта сабля тоже волшебная? - Волшебная игрушечная сабля - не гнется, не ломается и не режет пальцев. У кого такая сабля, тот выйдет цел и невредим из любого единоборства с любым врагом не старше восемнадцати лет. От двух с половиной шиллингов до семи с половиной, в зависимости от размера... Эти картонные доспехи предназначены для юных рыцарей и незаменимы в странствиях. Волшебный щит, сапоги-скороходы, шапка-невидимка. - Ох, папа! - воскликнул Джип. Я хотел узнать их цену, но продавец не обратил на меня внимания. Теперь он совершенно завладел Джипом. Он оторвал его от моего пальца, углубился в описание своих проклятых товаров, и остановить его было невозможно. Скоро я заметил со смутной тревогой и каким-то чувством, похожим на ревность, что Джип ухватился за его палец, точь-в-точь как обычно хватался за мой. "Конечно, он человек занятный, - думал я, - и у него накоплено много прелюбопытной дряни, но все-таки..." Я побрел за ними, не говоря ни слова, но зорко присматривая за этим фокусником. В конце концов Джипу это доставляет удовольствие... И никто не помешает нам уйти, когда вздумается. Выставка товаров занимала длинную комнату, большая галерея изобиловала всякими колоннами, подпорками, стойками; арки вели в, боковые помещения, где болтались без дела и зевали по сторонам приказчики самого странного вида; на каждом шагу нам преграждали путь и сбивали нас с толку разные портьеры и зеркала, так что скоро я потерял ту дверь, в которую мы вошли. Продавец показал Джипу волшебные поезда, которые двигались без пара и пружины, чуть только вы открывали семафор, а также драгоценные коробки с оловянными солдатиками, которые оживали, как только вы поднимали крышку и произносили... Как передать этот звук, я не знаю, но Джип - у него тонкий слух его матери - тотчас же воспроизвел его. - Браво! - воскликнул продавец, весьма бесцеремонно бросая оловянных человечков обратно в коробку и передавая ее Джипу. - Ну-ка еще разок! И Джип в одно мгновение опять воскресил их. - Вы берете эту коробку? - спросил продавец. - Мы бы взяли эту коробку, - сказал я, - если только вы уступите нам со скидкой. Иначе нужно быть миллионером... - Что вы! С удовольствием. И продавец снова впихнул человечков в коробку, захлопнул крышку, помахал коробкой в воздухе - и тотчас же она оказалась перевязанной бечевкой и обернутой в серую бумагу, а на бумаге появились полный адрес и имя Джипа! Видя мое изумление, продавец засмеялся. - У нас настоящее волшебство, - сказал он. - Подделок не держим. - По-моему, оно даже чересчур настоящее, - отозвался я. После этого он стал показывать Джипу разные фокусы, необычайные сами по себе, а еще больше - по выполнению. Он объяснял устройство игрушек и выворачивал их наизнанку, и мой милый малыш, страшно серьезный, смотрел и кивал с видом знатока. Я не мог уследить за ними. "Эй, живо!" - вскрикивал волшебный продавец, и вслед за ним чистый детский голос повторял: "Эй, живо!" Но меня отвлекло другое. Меня стала одолевать вся эта чертовщина. Ею было проникнуто все: пол, потолок, стены, каждый гвоздь, каждый стул. Меня не покидало странное чувство, что стоит мне только отвернуться - и все это запляшет, задвигается, пойдет бесшумно играть у меня за спиной в пятнашки. Карниз извивался, как змея, и лепные маски по углам были, по правде говоря, слишком выразительны для простого гипса. Внезапно внимание мое привлек один из приказчиков, человек диковинного вида. Он стоял в стороне и, очевидно, не знал о моем присутствии (мне он был виден не весь: его ноги заслоняла груда игрушек и, кроме того, нас разделяла арка). Он беспечно стоял, прислонясь к столбу и проделывая со своим лицом самые невозможные вещи. Особенно ужасно было то, что он делал со своим носом. И все это с таким видом, будто просто решил поразвлечься от скуки. Сначала у него был коротенький приплюснутый нос, потом нос неожиданно вытянулся, как подзорная труба, а потом стал делаться все тоньше и тоньше и в конце концов превратился в длинный, гибкий красный хлыст... Как в страшном сне! Он размахивал своим носом в разные стороны и забрасывал его вперед, как рыболов забрасывает удочку. Тут я спохватился, что это зрелище совсем не для Джипа. Я оглянулся и увидел, что все внимание мальчика поглощено продавцом и он не подозревает ничего дурного. Они о чем-то шептались, поглядывая на меня. Джип взобрался на табуретку, а продавец держал в руке что-то вроде огромного барабана. - Сыграем в прятки, папа! - крикнул Джип. - Тебе водить! И не успел я вмешаться, как продавец накрыл его большим барабаном. Я сразу понял, в чем дело. - Поднимите барабан! - закричал я. - Сию минуту! Вы испугаете ребенка! Поднимите! Человек с разными ушами беспрекословно повиновался и протянул мне этот большой цилиндр, чтобы я мог вполне убедиться, что он пуст! Но на табуретке тоже не было никого! Мой мальчик бесследно исчез!.. Вам, может быть, знакомо зловещее чувство, которое охватывает вас, словно рука неведомого, и больно сжимает вам сердце! Это чувство сметает куда-то прочь ваше обычное "я", вы сразу напрягаетесь, становитесь осмотрительны и предприимчивы, вы не медлите, но и не торопитесь, гнев и страх исчезают. Так было со мной. Я подошел к ухмыляющемуся продавцу и опрокинул табуретку ударом ноги. - Оставьте эти шутки, - сказал я. - Где мой мальчик? - Вы сами видите, - сказал он, показывая мне пустой барабан, - у нас никакого обмана... Я протянул руку, чтобы схватить его за шиворот, но он, ловко извернувшись, ускользнул от меня. Я опять бросился на него, но он опять увильнул и распахнул какую-то дверь. - Стой! - крикнул я. Он убежал со смехом, я ринулся за ним и со всего размаху вылетел... во тьму. Хлоп! - Фу ты! Я вас и не заметил, сэр! Я был на Риджент-стрит и столкнулся с каким-то очень почтенным рабочим. А невдалеке от меня, немного растерянный, стоял Джип. Я кое-как извинился, и Джип с ясной улыбкой подбежал ко мне, как будто только что на одну секунду потерял меня из виду. В руках у него было четыре пакета! Он тотчас же завладел моим пальцем. Сначала я не знал, что подумать. Я обернулся, чтобы увидеть дверь волшебной лавки, но ее нигде не было. Ни лавки, ни двери - ничего! Самый обыкновенный простенок между магазином, где продаются картины, и окном с цыплятами... Я сделал единственное, что было возможно в таком положении: встал на краю тротуара и помахал зонтиком, подзывая кэб. - В карете! - восторженно воскликнул Джип. Он не ждал этой дополнительной радости. Я усадил Джипа, не без труда вспомнил свой адрес и сел сам. Тут я почувствовал что-то необычное у себя в кармане и вынул оттуда стеклянный шарик. С негодованием я бросил его на мостовую. Джип не сказал ни слова. Некоторое время мы оба молчали. - Папа! - сказал наконец Джип. - Это была хорошая лавка! Тут я впервые задумался, как же он воспринял все это приключение. Он оказался совершенно цел и невредим - это главное. Он не был напуган, он не был расстроен, он просто был страшно доволен тем, как провел день, и к тому же у него в руках было четыре пакета. Черт возьми! Что могло там быть? - Гм! - сказал я. - Маленьким детям нельзя каждый день ходить в такие лавки! Он принял эти слова со свойственным ему стоицизмом, и на минуту я даже пожалел, что я его отец, а не мать, и не могу тут же, coram publico [при народе (лат.)] расцеловать его. "В конце концов, - подумал я, - не так уж все это страшно". Но окончательно утвердился я в этом мнении, только когда мы распаковали наши свертки. В трех оказались коробки с обыкновенными, но такими замечательными оловянными солдатиками, что Джип совершенно забыл о тех "Настоящих волшебных солдатах", которых он видел в лавке, а в четвертом свертке был котенок - маленький белый живой котенок, очень веселый и с прекрасным аппетитом. Я рассматривал содержимое пакетов с облегчением, но все-таки еще с опаской. Проторчал я в детской не знаю сколько времени... Это случилось шесть месяцев тому назад. И теперь я начинаю думать, что никакой беды не произошло. В котенке оказалось не больше волшебства, чем во всех других котятах. Солдаты оказались такими стойкими, что ими был бы доволен любой полковник. Что же касается Джипа... Чуткие родители согласятся, что с ним я должен был соблюдать особенную осторожность. Но недавно я все же отважился на серьезный шаг. Я спросил: - А что, Джип, если бы твои солдаты вдруг ожили в пошли маршировать? - Мои солдаты живые, - сказал Джип. - Стоит мне только сказать одно словечко, когда я открываю коробку. - И они маршируют? - Еще бы! Иначе за что их и любить! Я не высказал неуместного удивления и попробовал несколько раз, чуть только он возьмется за своих солдатиков, неожиданно войти к нему в комнату. Но никаких признаков волшебного поведения я до сих пор за ними не заметил. Так что трудно сказать, прав ли Джип или нет. Еще один вопрос: о деньгах. У меня неизлечимая привычка всегда платить по счетам. Я исходил вдоль и поперек всю Риджент-стрит, но не нашел той лавки. Тем не менее я склонен думать, что в этом деле честь моя не пострадала: ведь раз этим людям - кто бы они ни были - известен адрес Джипа, они могут в любое время явиться ко мне и получить по счету. | ||
| Автор: Chanda | В. Пелевин ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРАЯ НОМЕР XII Вначале было слово, и даже, наверное, не одно - но он ничего об этом не знал. В своей нулевой точке он находил пахнущие свежей смолой доски, которые лежали штабелем на мокрой траве и впитывали своими гранями солнце, находил гвозди в фанерном ящике, молотки, пилы и прочее - представляя все это, он замечал, что скорей домысливает картину, чем видит ее. Слабое чувство себя появилось позже - когда внутри уже стояли велосипеды, а всю правую сторону заняли полки в три яруса. По-настоящему он был тогда еще не Номером XII, а просто новой конфигурацией штабеля досок, но именно эти времена оставили в нем самый чистый и запомнившийся отпечаток: вокруг лежал необъяснимый мир, а он, казалось, в своем движении по нему остановился на какое-то время здесь, в этом месте. Место, правда, было не из лучших - задворки пятиэтажки, возле огородов и помойки, - но стоило ли расстраиваться? Ведь не всю жизнь он здесь проведет. Задумайся он об этом, пришлось бы, конечно, ответить, что именно всю жизнь он здесь и проведет, как это вообще свойственно сараям, - но прелесть самого начала жизни заключается как раз в отсутствии таких размышлений: он просто стоял себе под солнцем, наслаждаясь ветром, летящим в щели, если тот дул от леса, или впадая в легкую депрессию, если ветер дул со стороны помойки; депрессия проходила, как только ветер менялся, не оставляя на его неоформившейся душе никаких следов. Однажды к нему приблизился голый по пояс мужчина в красных тренировочных штанах; в руках он держал кисть и здоровенную жестянку краски. Этот мужчина, которого сарай уже научился узнавать, отличался от всех остальных людей тем, что имел доступ внутрь, к велосипедам и полкам. Остановясь у стены, он обмакнул кисть в жестянку и провел по доскам ярко-багровую черту. Через час весь сарай багровел, как дым, в свое время восходивший, по некоторым сведениям, кругами к небу; это стало первой реальной вехой в его памяти - до нее на всем лежал налет потусторонности и счастья. В ночь после окраски, получив черную римскую цифру - имя (на соседних сараях стояли обычные цифры), он просыхал, подставив луне покрытую толем крышу. "Где я, - думал он, - кто я?" Сверху было темное небо, потом - он, а внизу стояли новенькие велосипеды; на них сквозь щель падал луч от лампы во дворе, и звонки на их рулях блестели загадочней звезд. Сверху на стене висел пластмассовый обруч, и Номер XII самыми тонкими из своих досок осознавал его как символ вечной загадки мироздания, представленной - это было так чудесно - и в его душе. На полках с правой стороны лежала всякая ерунда, придававшая разнообразие и неповторимость его внутреннему миру. На нитке, протянутой от стены к стене, сохли душица и укроп, напоминая о чем-то таком, чего с сараями просто не бывает, - тем не менее они именно напоминали, и ему иногда мерещилось, что когда-то он был не сараем, а дачей, или, по меньшей мере, гаражом. Он ощутил себя и понял, что то, что ощущало, - то есть он сам - складывалось из множества меньших индивидуальностей: из неземных личностей машин для преодоления пространства, пахнувших резиной и сталью; из мистической интроспекции замкнутого на себе обруча; из писка душ разбросанной по полкам мелочи вроде гвоздей и гаек и из другого. В каждом из этих существований было бесконечно много оттенков, но все-таки любому соответствовало что-то главное для него - какое-то решающее чувство, и все они, сливаясь, образовывали новое единство, огороженное в пространстве свежевыкрашенными досками, но не ограниченное ничем; это и был он, Номер XII, и над ним в небе сквозь туман и тучи неслась полностью равноправная луна... С тех пор по-настоящему и началась его жизнь. Скоро Номер XII понял, что больше всего ему нравится ощущение, источником или проводником которого были велосипеды. Иногда, в жаркий летний день, когда все вокруг стихало, он тайно отождествлял себя то со складной "Камой", то со "Спутником", и испытывал два разных вида полного счастья. В этом состоянии ничего не стоило оказаться километров за пятьдесят от своего настоящего местонахождения и катить, например, по безлюдному мосту над каналом в бетонных берегах или по сиреневой обочине нагретого шоссе, сворачивать в тоннели, образованные разросшимися вокруг узкой грунтовой дорожки кустами, чтобы, попетляв по ним, выехать уже на другую дорогу, ведущую к лесу, через лес, а потом упирающуюся в оранжевые полосы над горизонтом; можно было, наверное, ехать по ней до самого конца жизни, но этого не хотелось, потому что счастье приносила именно эта возможность. Можно было оказаться в городе, в каком-нибудь дворе, где из трещин асфальта росли какие-то длинные стебли, и провести там весь вечер - вообще, можно было почти все. Когда он захотел поделиться некоторыми из своих переживаний с оккультно ориентированным гаражом, стоящим рядом, он услышал в ответ, что высшее счастье на самом деле только одно и заключается оно в экстатическом единении с архетипом гаража - как тут было рассказать собеседнику о двух разных видах совершенного счастья, одно из которых было складным, а другое зато имело три скорости. - Что, и я тоже должен стараться почувствовать себя гаражом? - спросил он как-то. - Другого пути нет, - отвечал гараж, - тебе это, конечно, вряд ли удастся до конца, но у тебя все же больше шансов, чем у конуры или табачного киоска. - А если мне нравится чувствовать себя велосипедом? - высказал Номер XII свое сокровенное. - Ну что же, чувствуй - запретить не могу. Чувства низшего порядка для некоторых - предел, и ничего с этим не поделаешь, - сказал гараж. - А чего это у тебя мелом на боку написано? - переменил тему Номер XII. - Не твое дело, говно фанерное, - ответил гараж с неожиданной злобой. Номер XII заговорил об этом, понятно, от обиды - кому не обидно, когда его чувства называют низшими? После этого случая ни о каком общении с гаражом не могло быть и речи, да Номер XII и не жалел. Однажды утром гараж снесли, и Номер XII остался в одиночестве. Правда, с левой стороны к нему подходили два других сарая, но он старался даже не думать о них. Не из-за того, что они были несколько другой конструкции и окрашены в тусклый неопределенный цвет - с этим можно было бы смириться. Дело было в другом: рядом, на первом этаже пятиэтажки, где жили хозяева Номера XII, находился большой овощной магазин, и эти сараи служили для него подсобными помещениями. В них хранилась морковка, картошка, свекла, огурцы, но определяющим все главное относительно Номера 13 и Номера 14 была, конечно, капуста в двух накрытых полиэтиленом огромных бочках: Номер XII часто видел их стянутые стальными обручами глубоководные тела, выкатывающиеся на ребре во двор в окружении свиты испитых рабочих. Тогда ему становилось страшно, и он вспоминал одно из высказываний покойного гаража, по которому он временами скучал: "От некоторых вещей в жизни надо попросту как можно скорее отвернуться", - вспоминал и сразу следовал ему. Темная труднопонимаемая жизнь соседей, их тухлые испарения и тупая жизнеспособность угрожали Номеру XII, потому что само существование этих приземистых построек отрицало все остальное и каждой каплей рассола в бочках заявляло, что Номер XII в этой вселенной совершенно не нужен; во всяком случае, так он расшифровывал исходившие от них волны осознания мира. Но день кончался, свет мерк, Номер XII становился велосипедом, несущимся по пустынной автостраде, и вспоминать о дневных ужасах было просто смешно. Была середина лета, когда звякнул замок, откинулась скоба запора и внутрь Номера XII вошли двое - хозяин и какая-то женщина. Она очень не понравилась Номеру XII, потому что непонятным образом напомнила ему все то, чего он не переносил. Не то чтобы от женщины пахло капустой и поэтому она производила такое впечатление - скорее наоборот, запах капусты содержал сведения об этой женщине; она как бы овеществляла собой идею квашения и воплощала ту угнетающую волю, которой Номера 13 и 14 были обязаны своим настоящим. Номер XII задумался, а люди между тем говорили: - Ну что, полки снять - и хорошо, хорошо... - Сарай - первый сорт, - отзывался хозяин, выкатывая наружу велосипеды, - не протекает, ничего. А цвет-то какой! Выкатив велосипеды и прислонив их к стене, он начал беспорядочно собирать с полок все, что там лежало. Тогда Номеру XII стало не по себе. Конечно, и раньше велосипеды часто исчезали на какой-то срок, и он умел закрывать возникавшую пустоту своей памятью - потом, когда велосипеды ставили на место, он удивлялся несовершенству созданных ею образов по сравнению с действительной красотой велосипедов, запросто излучаемой ими в пространство, - так вот, пропав, велосипеды всегда возвращались, и эти недолгие расставания с главным в собственной душе сообщали жизни Номера XII прелесть непредсказуемости завтрашнего дня; но сейчас все было по-другому. Велосипеды забирали навсегда. Он понял это по полному и бесцеремонному опустошению, которое производил в нем носитель красных штанов - такое было впервые. Женщина в белом халате давно уже ушла куда-то, а хозяин все копался, сгребая инструменты в сумку, снимая со стен жестянки и старые клееные камеры. Потом почти к двери подъехал грузовик, и оба велосипеда вслед за набитыми до отказа сумками покорно нырнули в его разверстый брезентовый зад. Номер XII был пуст, а его дверь открыта настежь. Но, несмотря ни на что, он продолжал быть самим собой. В нем продолжали жить души всего того, чего его лишила жизнь: и хоть они стали подобны теням, они по-прежнему сливались вместе, чтобы образовать его, Номера XII; вот только для сохранения индивидуальности требовалась вся сила воли, которую он мог собрать. Утром он заметил в себе перемену - его не интересовал больше окружающий мир, а все, что его занимало, находилось в прошлом, перемещаясь кругами по памяти. Он знал, как это объяснить: хозяин, уезжая, забыл обруч, оставшийся единственной реальной частью его нынешней призрачной души, - и поэтому Номер XII теперь сильно напоминал себе замкнутую окружность. Но у него не было сил как-то к этому отнестись и подумать: хорошо ли это? Плохо ли? Все заливала и обесцвечивала тоска. Так прошел месяц. Однажды появились рабочие, вошли в беззащитно раскрытую дверь и за несколько минут выломали полки. Не успел Номер XII прочувствовать свое новое состояние, как волна ужаса обдала его, показав, кстати, сколько в нем еще оставалось жизненной силы, нужной, чтобы испытывать страх. По двору к нему катили бочку. Именно к нему. Даже на самом дне ностальгии, когда ему казалось, что ничего хуже случившегося с ним не может и присниться, он не думал о такой возможности. Бочка была страшной. Она была огромной и выпуклой, она была очень старой, и ее бока, пропитанные чем-то чудовищным, издавали вонь такого спектра, что даже привычные к изнанке жизни работяги, катившие ее на ребре, отворачивались и матерились. При этом Номер XII видел нечто незаметное рабочим: в бочке холодело внимание и она мокрым подобием глаза воспринимала мир. Как ее вкатывали внутрь и крутили на полу, ставя в самый центр, потерявший сознание Номер XII не видел.
Страдание увечит. Прошло два дня, и к Номеру XII стали понемногу возвращаться мысли и чувства. Теперь он был другим, и все в нем было по-другому. В самом центре его души, там, где когда-то покоились омытые ветром рамы, теперь пульсировала живая смерть, сгущавшаяся в бочку, которая медленно существовала и думала; мысли эти теперь были и мыслями Номера XII. Он ощущал брожение гнилого рассола, и это в нем поднимались пузыри, чтобы лопнуть на поверхности, образовав лунку на слое плесени, это в нем перемещались под действием газа разбухшие трупные огурцы, и это в нем напрягались пропитанные слизью доски, стянутые ржавым железом. Все это было им. Номера 13 и 14 теперь не пугали его - наоборот, между ними быстро установилось полубессознательное товарищество. Но прошлое не исчезло полностью - оно просто было оттеснено и смято. Поэтому новая жизнь Номера XII была двойной. С одной стороны, он участвовал во всем на равных правах с Номерами 13 и 14, а с другой - где-то в нем скрывались чувства - сознание ужасной несправедливости того, что с ним произошло. Но центр тяжести его нового существа лежал, конечно, в бочке, которая издавала постоянное бульканье и потрескивание, пришедшее на смену воображаемому шелесту шин. Номера 13 и 14 объясняли ему, что все случившееся - элементарный возрастной перелом. - Вхождение в реальный мир с его заботами и тревогами всегда сопряжено с некоторыми трудностями, - говорил Номер 13, - совсем новые проблемы наполняют душу. И добавлял ободряюще: - Ничего, привыкнешь. Тяжело только сперва. Четырнадцатый был сараем скорее философского склада (не в смысле хранилища), часто говорил о духовном и скоро убедил нового товарища, что раз прекрасное заключено в гармонии ("Это раз", - говорил он), а внутри - и это объективно - находятся огурцы или капуста ("Это два"), то прекрасное в жизни заключено в достижении гармонии с содержимым бочки и в устранении всего, что этому препятствует. Под край его собственной бочки, чтоб не вытекало, был подложен старый философский словарь, который он часто цитировал; он же помогал ему объяснять Номеру XII, как надо жить. Все же Номер 14 до конца не доверял новичку, чувствуя в нем что-то такое, чего сам Номер XII в себе уже не замечал. Постепенно Номер XII и вправду привык. Иногда он даже чувствовал специфическое вдохновение, новую волю к своей новой жизни. Но все-таки недоверие новых друзей было оправданным: несколько раз Номер XII ловил быстрый, как луч из замочной скважины, проблеск чего-то забытого и погружался тогда в сосредоточенное презрение к себе - чего уж говорить о других, которых он в эти минуты просто ненавидел. Все это, конечно, подавлялось непобедимым мироощущением бочки с огурцами, и скоро Номер XII начинал недоумевать, чего это его так занесло. Постепенно он становился проще и прошлое все реже тревожило его, потому что трудно стало догонять слишком мимолетные вспышки памяти. Зато бочка все чаще казалась залогом устойчивости и покоя, как балласт на корабле, и иногда Номер XII так и представлял себя - в виде теплохода, вплывающего в завтра. Он стал чувствовать присущую своей бочке своеобразную доброту - но только с тех пор, как окончательно открыл ей что-то в себе. Огурцы теперь казались ему чем-то вроде детей. Номера 13 и 14 были неплохими товарищами, и главное - в них он находил опору своему новому. Бывало, вечером они втроем молча классифицировали предметы мира, наполняя все вокруг общим пониманием, и когда какая-нибудь недавно построенная рядом будка содрогалась, он думал, глядя на нее: "Глупость... Ничего, перебесится - поймет..." Несколько подобных трансформаций произошло на его глазах, и это лишний раз подтвердило его правоту. Испытывал он и ненависть - когда в мире появлялось что-то ненужное; слава Богу, такое случалось редко. Шли дни и годы, и казалось, уже ничего не изменится. Как-то летним вечером, оглядывая свое нутро, Номер XII натолкнулся на непонятный предмет: пластмассовый обруч, обросший паутиной. Сначала он не мог взять в толк, что это и зачем, - и вдруг вспомнил: ведь столько было когда-то связано с этой штукой! Бочка в нем дремала, и какая-то другая его часть осторожно перебирала нити памяти, но все они были давно оборваны и никуда не приводили. Однако ведь было же что-то? Или не было? Сосредоточенно пытаясь понять, о чем же это он не помнит, он на секунду перестал чувствовать бочку и как-то отделился от нее. В этот самый момент во двор въехал велосипед, и ездок без всякой причины дважды прозвонил звоночком на руле. И этого хватило - Номер XII вдруг все вспомнил.
Велосипед.
Шоссе.
Закат.
Мост над рекой.
Он вспомнил, кто он на самом деле, и стал наконец собой - действительно собой. Все связанное с бочкой отпало, как сухая корка, он почувствовал отвратительную вонь рассола и увидел своих вчерашних товарищей, Номеров 13 и 14, такими, какими они были. Но думать об этом не было времени - надо было спешить, потому что он знал, что проклятая бочка, если он не успеет сделать того, что задумал, опять подчинит его и сделает собой. Бочка между тем проснулась, поняла, и Номер XII ощутил знакомую волну холодного отупения: раньше он думал, что это его отупение. Проснувшись, бочка стала заполнять его, и он ничем не мог ответить на это, кроме одного. Под выступом крыши шли два электрических провода. Когда-то они проходили через вырез в доске, но уже давно выбились из него и теперь врезались оголенной медью в дерево на палец друг от друга. Пока бочка приходила в себя и выясняла, в чем дело, он сделал единственное, что мог: изо всех сил надавил на эти провода, использовав какую-то новую возможность, появившуюся у него от отчаяния. В следующий момент его смела непреодолимая сила, исшедшая из бочки с огурцами, и на какое-то время он просто перестал существовать. Но дело было сделано - провода, оказавшись в воздухе, коснулись друг друга, и на месте их встречи вспыхнуло лилово-белое пламя. Через секунду где-то выгорела пробка и ток в проводах пропал, но по сухой доске вверх уже подымалась узкая ленточка дыма, потом появился огонь и, не встречая на своем пути никакого препятствия, стал расти и подползать к крыше. Номер XII очнулся после удара и понял, что бочка решила уничтожить его. Он сжал все свое существо в одной из верхних досок крыши и почувствовал, что бочка не одна - ей помогали Номера 13 и 14, которые давили на него снаружи. "Очевидно, - со странной отрешенностью подумал Номер XII, - для них сейчас происходит что-то вроде обуздания помешанного, а может - прорезавшегося врага, который так ловко притворялся своим..." Додумать не удалось, потому что бочка, всей своей гнилью навалившись на границу его существования, удвоила усилия. Он выдержал, но понял, что следующий удар будет для него последним, и приготовился к смерти. Однако шло время, а нового удара не было. Тогда он несколько расширил свои границы и почувствовал две вещи. Первой был страх, принадлежавший бочке, - такой же холодный и медленный, как все ее проявления. Второй вещью был огонь, полыхавший вокруг и уже подбиравшийся к одушевляемой Номером XII части потолка. Пылали стены, огненными слезами рыдал толь на крыше, а внизу горели пластмассовые бутылки с подсолнечным маслом. Некоторые из них лопались, рассол в бочке кипел, и она, несмотря на все свое могущество, погибала. Номер XII расширил себя по всей части крыши, которая еще существовала, и вызвал в своей памяти тот день, когда его покрасили, а главное - ту ночь: он хотел умереть с этой мыслью. Сбоку уже горел Номер 13, и это было последним, что он заметил. Но смерть не шла, а когда его последнюю щепку охватил огонь, случилось неожиданное.
Завхоз семнадцатого овощного, та самая женщина, шла домой в поганом настроении. Вечером, часов в шесть, неожиданно загорелась подсобка, где стояли масло и огурцы. Масло разлилось, и огонь перекинулся на соседние сараи - в общем, выгорело все что могло. От двенадцатого сарая остались только ключи, а от тринадцатого и четырнадцатого - по нескольку обгорелых досок. Пока составляли акты и объяснялись с пожарными, стемнело, и идти было страшно, так как дорога была пустынной и деревья по бокам стояли как бандиты. Завхоз остановилась и поглядела назад - не увязался ли кто следом. Вроде было пусто. Она сделала еще несколько шагов и оглянулась: кажется, вдали что-то мигало. На всякий случай она отошла в сторону, за дерево, и стала напряженно вглядываться в темноту, ожидая, пока ситуация прояснится. В самой дальней видимой точке дороги появилось светящееся пятнышко. "Мотоцикл!" - подумала завхоз и крепче вжалась в дерево. Однако шума мотора слышно не было. Светлое пятно приближалось, и стало видно, что оно не движется по дороге, а летит над ней. Еще секунда, и пятно превратилось в совершенно нереальную вещь - велосипед без велосипедиста, летящий на высоте трех или четырех метров. Странной была его конструкция - он выглядел как-то грубо, будто был сколочен из досок, - но самым странным было то, что он светился и мерцал, меняя цвета, становясь то прозрачным, то зажигаясь до нестерпимой яркости. Не помня себя, завхоз вышла на середину дороги, и велосипед явным образом отреагировал на ее появление. Он снизился, сбавил скорость и описал над головой одуревшей женщины несколько кругов, потом поднялся вверх, застыл на месте и строго, как флюгер, повернул над дорогой. Провисев так мгновение или два, он тронулся наконец с места, разогнался до невероятной скорости и превратился в сверкающую точку в небе. Потом она исчезла.
Придя в себя, завхоз заметила, что сидит на середине дороги. Она встала, отряхнулась и, совсем позабыв... Впрочем, Бог с ней. | ||
| Автор: Alex Wer Graf | Сарай мюмзиков напоминает | ||
| Автор: Chanda | Г. Х. Андерсен Обыкновенный петух и петух-флюгер Жили-были два петуха. Один – обыкновенный – день-деньской копался в навозной куче, а другой – флюгер – был приделан к коньку высокой крыши. Ну, как ты думаешь, кто из них был более знаменитым? Впрочем, что бы ты не сказал, мы-то будем думать по своему... Между птичником и двором стоял деревянный забор, посерёдке двора была навозная куча, а посерёдке кучи рос огромный огурец, растение парниковое, чем, к слову сказать, огурец этот весьма кичился. "Парниковым огурцом нужно родиться! — рассуждал он. — Но, поскольку не всем растениям дано родиться парниковыми, то, естественно, должны существовать и огородные. Вот, к примеру, куры, утки и прочая домашняя птица тоже ведь живут на свете. Или этот петух что взлетел на забор, он же значительнее флюгера! Тот хоть и забрался вон как высоко, а даже скрипнуть на ветру не может, не то что закукарекать! И нет при нём ни кур, ни цыплят, да и занят он только самим собой, торчит на верхотуре и покрывается от времени зелёной патиной! Куда ему до нашего петуха! Вот это петух так петух! Выступает, будто пава! Танцует, да и только! А поет! Искусному трубачу так не сыграть! Фанфарный марш! Музыка! Да, захоти он меня склевать целиком - я бы за честь почёл: вот была бы истинно благородная смерть!" Ночью разразилась такая буря, что петух с курами и цыплятами забились в самую глубину курятника. Трах! Ветер повалил забор. С крыши посыпались черепицы, но петух-флюгер уцелел. Он даже не скрипнул, не повернулся на диком ветру, сидел как истукан на своём коньке, хоть и был вполне молодым петухом - его ведь совсем недавно вычеканили из меди. Сомнений нет, он был очень умён и солиден, наш петух-флюгер, потому что появился на свет сразу взрослым. Он никогда не был цыплёнком и не имел дела с разными звонкоголосыми пичугами которых презрительно называл " вульгарными балаболками". Вот голуби – другое дело, те побольше, и перья у них отливают перламутром, они даже напоминают флюгеры с виду. Но они такие жирные и глупые, просто ужас! Одно у них занятие – поплотнее набить свои зобы. Пошлые твари! Правда, перелетные птицы иногда садились на крышу и рассказывали петуху-флюгеру о заморских странах, о дальних перелётах, о пиратских нападениях пернатых разбойников... Поначалу это было ново и любопытно, но затем вскоре надоело. Нельзя же в самом деле всё время слушать одно и то же! Скучища смертная! В конце концов опостылели ему и перелётные птицы, и вообще всё на свете. Всё суета сует, всё скука и пошлость! — Мир выродился! — частенько повторял петух-флюгер. — Ерунда всегда остаётся ерундой! Он был, как говорится, разочарованным петухом-флюгером и, конечно же, привёл бы в восторг парниковый огурец, если бы тот познакомился с ним, но у огурца только и света в окошке было, что обыкновенный петух, который, к слову сказать, как раз зашёл его навестить. Один поваленный забор напоминал о пролетевшей ночью ужасной буре. — Ну-с, как вам понравилось моё ночное «кукареку»? Перекричал я гром? А? — спросил, шагая вразвалку, как кавалерист обыкновенный петух у своих кур и цыплят, которые поднимались вслед за ним на навозную кучу. Что и говорить, хвастун он был, никакой деликатности в разговоре. — Эй, ты, овощное растение из семейства тыквенных! — сказал петух огурцу, который так изумился научным познаниям своего кумира, что не почувствовал, что его клюют. "Истинно благородная смерть!" А тут со всех сторон набежали куры, цыплята, - куры ведь как овцы, куда одна, туда и другие, и принялись кудахтать и пищать, восторгаясь обыкновенным петухом и гордясь, что они с ним в родстве. — Ку-ка-ре-ку! — заорал вдруг петух. — Вот я сейчас как закукарекаю на весь мировой птичий двор, и все цыплята тотчас вырастут в куриц! Какое тут поднялось кудахтанье и писк! А петух вконец расхвастался: — Я даже могу сам снести яйцо! И знаете, кто вылупится из этого яйца? Василиск! Ни одно живое существо не может вынести его взгляда! Люди издавна рассказывали об этом друг другу, а теперь я рассказал вам и вы знаете, что сокрыто во мне, потому что я из петухов петух! И он захлопал крыльями, затряс гребешком и закукарекал так, что и всех кур и цыплят зазвенело в ушах и мурашки пробежали по спине. О, как они были горды, что их петух - из петухов петух. И они принялись кудахтать и пищать так громко, что даже петуху-флюгеру стало понятно, о чём идёт внизу разговор, но он даже не пошевелился. "Чушь и ерунда, ерунда и чушь! — говорил он сам себе. — Никогда обыкновенному петуху не снести яйца! А вот лично я и не желаю нести яйца! Мне б только захотеть, и я враз снес бы яйцо, начинённое ветром! Но разве весь мир стоит такого яйца? Всё суета сует и всяческая суета! Мне и сидеть-то здесь опротивело! Крак! Надломился прутик, к которому был приделан петух-флюгер, и он загремел вниз, но не пришиб обыкновенного петуха, хоть и страстно хотел этого. Впрочем, это уже с куриных слов. Мораль? Пожалуйста: "Лучше уж петь петухом, чем разочаровавшись во всём на свете, надломится и загреметь вниз!" |
Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104
Количество просмотров у этой темы: 494404.
← Предыдущая тема: Сектор Волопас - Мир Арктур - Хладнокровный мир (общий)







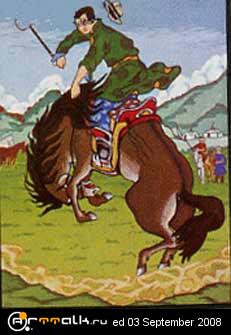




















 2015 © ART-Talk.ru - форум про компьютерную графику, CG арт, сообщество цифровых художников (18+)
2015 © ART-Talk.ru - форум про компьютерную графику, CG арт, сообщество цифровых художников (18+)