Список разделов » Сектора и Миры
Сектор Орион - Мир Беллатрикс - Сказочный мир
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 15 декабря - Международный день чая А. П. Чехов Писатель В комнате, прилегающей к чайному магазину купца Ершакова, за высокой конторкой сидел сам Ершаков, человек молодой, по моде одетый, но помятый и, видимо, поживший на своем веку бурно. Судя по его размашистому почерку с завитушками, капулю и тонкому сигарному запаху, он был не чужд европейской цивилизации. Но от него еще больше повеяло культурой, когда из магазина вошел мальчик и доложил: - Писатель пришел! - А!.. Зови его сюда. Да скажи ему, чтоб калоши свои в магазине оставил. Через минуту в комнатку тихо вошел седой, плешивый старик в рыжем, потертом пальто, с красным, помороженным лицом и с выражением слабости и неуверенности, какое обыкновенно бывает у людей, хотя и мало, но постоянно пьющих. - А, мое почтение... - сказал Ершаков, не оглядываясь на вошедшего. - Что хорошенького, господин Гейним? Ершаков смешивал слова "гений" и "Гейне", и они сливались у него в одно - "Гейним", как он и называл всегда старика. - Да вот-с, заказик принес, - ответил Гейним. - Уже готово-с... - Так скоро? - В три дня, Захар Семеныч, не то что рекламу, роман сочинить можно. Для рекламы и часа довольно. - Только-то? А торгуешься всегда, словно годовую работу берешь. Ну, показывайте, что вы сочинили? Гейним вынул из кармана несколько помятых, исписанных карандашом бумажек и подошел к конторке. - У меня еще вчерне-с, в общих чертах-с... - сказал он. - Я вам прочту-с, а вы вникайте и указывайте в случае, ежели ошибку найдете. Ошибиться не мудрено, Захар Семеныч... Верите ли? Трем магазинам сразу рекламу сочинял... Это и у Шекспира бы голова закружилась. Гейним надел очки, поднял брови и начал читать печальным голосом и точно декламируя: - "Сезон 1885-86 г. Поставщик китайских чаев во все города Европейской и Азиатской России и за границу, З. С. Ершаков. Фирма существует с 1804 года". Всё это вступление, понимаете, будет в орнаментах, между гербами. Я одному купцу рекламу сочинял, так тот взял для объявления гербы разных городов. Так и вы можете сделать, и я для вас придумал такой орнамент, Захар Семеныч: лев, а у него в зубах лира. Теперь дальше: "Два слова к нашим покупателям. Милостивые государи! Ни политические события последнего времени, ни холодный индифферентизм, всё более и более проникающий во все слои нашего общества, ни обмеление Волги, на которое еще так недавно указывала лучшая часть нашей прессы, - ничто не смущает нас. Долголетнее существование нашей фирмы и симпатии, которыми мы успели заручиться, дают нам возможность прочно держаться почвы и не изменять раз навсегда заведенной системе как в сношениях наших с владельцами чайных плантаций, так равно и в добросовестном исполнении заказов. Наш девиз достаточно известен. Выражается он в немногих, но многозначительных словах: добросовестность, дешевизна и скорость!!" - Хорошо! Очень хорошо! - перебил Ершаков, двигаясь на стуле. - Даже не ожидал, что так сочините. Ловко! Только вот что, милый друг... нужно тут как-нибудь тень навести, затуманить, как-нибудь этак, знаешь, фокус устроить... Публикуем мы тут, что фирма только что получила партию свежих первосборных весенних чаев сезона 1885 года... Так? А нужно кроме того показать, что эти только что полученные чаи лежат у нас в складе уже три года, но, тем не менее, будто из Китая мы их получили только на прошлой неделе. - Понимаю-с... Публика и не заметит противоречия. В начале объявления мы напишем, что чаи только что получены, а в конце мы так скажем: "Имея большой запас чаев с оплатой прежней пошлины, мы без ущерба собственным интересам можем продавать их по прейскуранту прошлых лет... и т. д." Ну-с, на другой странице будет прейскурант. Тут опять пойдут гербы и орнаменты... Под ними крупным шрифтом: "Прейскурант отборным ароматическим, фучанским, кяхтинским и байховым чаям первого весеннего сбора, полученным из вновь приобретенных плантаций"... Дальше-с: "Обращаем внимание истинных любителей на лянсинные чаи. из коих самою большою и заслуженною любовью пользуется "Китайская эмблема, или Зависть конкурентов" 3 р. 50 к. Из розанистых чаев мы особенно рекомендуем "Богдыханская роза" 2 р. и "Глаза китаянки" 1 р.80к." За ценами пойдет петитом о развеске и пересылке чая. Тут же о скидке и насчет премий: "Большинство наших конкурентов, желая завлечь к себе покупателей, закидывает удочку в виде премий. Мы с своей стороны протестуем против этого возмутительного приема и предлагаем нашим покупателям не в виде премии, а бесплатно все приманки, какими угощают конкуренты своих жертв. Всякий купивший у нас не менее чем на 50 р., выбирает и получает бесплатно одну из следующих пяти вещей: чайник из британского металла, сто визитных карточек, план города Москвы, чайницу в виде нагой китаянки и книгу "Жених удивлен, или Невеста под корытом", рассказ Игривого Весельчака". Кончив чтение и сделав кое-какие поправки, Гейним быстро переписал рекламу начисто и вручил ее Ершакову. После этого наступило молчание... Оба почувствовали себя неловко, как будто совершили какую-то пакость. - Деньги за работу сейчас прикажете получить или после? - спросил Гейним нерешительно. - Когда хотите, хоть сейчас... - небрежно ответил Ершаков. - Ступай в магазин и бери чего хочешь на пять с полтиной. - Мне бы деньгами, Захар Семеныч. - У меня нет моды деньгами платить. Всем плачу чаем да сахаром: и вам, и певчим, где я старостой, и дворникам. Меньше пьянства. - Разве, Захар Семеныч, мою работу можно равнять с дворниками да с певчими? У меня умственный труд. - Какой труд! Сел, написал и всё тут. Писанья не съешь, не выпьешь... плевое дело! И рубля не стоит. - Гм... Как вы насчет писанья рассуждаете... - обиделся Гейним. - Не съешь, не выпьешь. Того не понимаете, что я, может, когда сочинял эту рекламу, душой страдал. Пишешь и чувствуешь, что всю Россию в обман вводишь. Дайте денег, Захар Семеныч! - Надоел, брат. Нехорошо так приставать. - Ну, ладно. Так я сахарным песком возьму. Ваши же молодцы у меня его назад возьмут по восьми копеек за фунт. Потеряю на этой операции копеек сорок, ну, да что делать! Будьте здоровы-с! Гейним повернулся, чтобы выйти, но остановился в дверях, вздохнул и сказал мрачно: - Россию обманываю! Всю Россию! Отечество обманываю из-за куска хлеба! Эх! И вышел. Ершаков закурил гаванку, и в его комнате еще сильнее запахло культурным человеком.
|
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 19 декабря - Международный день помощи бедным Дымки очагов (из «Анналов Японии») ...Весной 4-го года, в день Киноэ-нэ месяца Кисараги, когда новолуние пришлось на день Цутиното-но хицудзи, государь отдал повеление министрам, сказав: «Я поднялся на высокую площадку и посмотрел вдаль, но над землей нигде не поднимаются дымки. И я подумал — видно, крестьяне совсем обеднели, никто даже не разводит огня в доме. Слышал я, что во времена мудрого правителя люди славили его добродетель и в каждом доме слышались спокойные песни. Я же смотрю на миллионы — десятки миллионов подданных вот уже три года. Дымки очага видны все реже. Из этого явствует, что пять злаков не вызревают и все сто родов живут в нужде. Даже в окрестностях столицы есть еще люди, не покорные властям. Что же, спрашивается, происходит за пределами столичного округа?» В день Цутиното-но тори месяца Яёи, когда новолуние пришлось на день Цутиното-но уси, государь отдал повеление: «Отныне и до истечения трех лет все поборы прекратить и дать ста родам передышку в их тяжелом труде». С того дня государю не шили нового платья и обуви, пока старые не износятся. Не подавалось новой еды и питья, пока прежние не скиснут. Сердце свое он унял, волю сжал и ничего не предпринимал ради себя самого. Потому, хотя изгородь его обители сломалась — ее не восстанавливали, настланный на крыше тростник обветшал — его не перестилали. В щели врывался ветер с дождем, одежда на государе промокала. Сквозь проломы в настиле крыши государю с ложа было видно мерцание звезд. Зато дождь и ветер стали соответствовать ходу времени, а пять злаков — давать богатые урожаи. Через три года все сто крестьянских родов сделались зажиточными. Повсеместно уже воспевали в песнях государеву добродетель, повсюду вились дымки очагов. Летом 7-го года, в день новолуния Каното-но хицудзи месяца Удуки, государь соизволил подняться на возвышение и оглядеться далеко кругом — везде во множестве виднелись дымки очагов. В тот день он соизволил сказать государыне-супруге: «Вот я уже и богат. Теперь печалиться нет причины». Государыня в ответ рекла: «Что ты называешь быть богатым?» Государь ответил: «По всей стране от очагов поднимаются струйки дыма. А могут ли сто родов стать богатыми сами по себе?» На это государыня возразила: «Изгородь дворца развалилась, и никак ее не починить. Крыша обветшала, и платье промокло от росы. Почему же ты говоришь о богатстве?» Государь рек: «Небесного властителя ставят на его пост ради блага ста родов. И при этом сам властитель сто родов полагает за главное. Поэтому мудрые правители прошлого, даже если всего один подданный голодал и мерз, старались сократить свои потребности. Когда сто родов бедны — я тоже беден. Богатеют сто родов — богатею и я. Не было еще такого — чтобы сто родов были богаты, а правитель беден». <...> В 9-м месяце от всех провинций поступили такие запросы: «С тех пор как были отменены все подати и повинности, прошло уже три года. За это время дворец обветшал и развалился, государевы амбары пусты. Теперь народ — «черные головы» богаты, упавшее с земли не подбирают. В деревнях нет вдовцов и вдов, в домах есть излишки. Если в такую пору не исполнять повинности, и не вносить налоги, и не поправить дворец, то уж, верно, не простит Небо такой вины». Однако государь решил еще какое-то время потерпеть и не согласился. Весной 10-го года, в десятом месяце, наконец снова была собрана дань и перестроен дворец. Не приходилось подгонять людей ста родов — даже старики сами прибрели, и детей взрослые привели, все дружно перетаскивали бревна или корзины на спине носили. Дня и ночи не различая, сил не жалея, наперегонки работали. Так что и времени много не прошло, а уж дворец был готов. Вот почему до сих пор этого государя именуют правителем-мудрецом. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 22 декабря — тёмный праздник Новогодья Кафорина Анастасия Полярная ночь" (взято отсюда: http://21vu.ru/stuff/841/37345 ) За иссиня-черным окном, покрытым инеем и обклеенным простыми бумажными снежинками, выл ветер. Так протяжно и жалобно, будто просился переждать всего лишь одну холодную ночку, обещав с первым лучиком зимнего солнца вновь пуститься в свой путь, не причинив добродушным хозяевам каких-либо неудобств. Совсем рядом стоял старенький громоздкий обогреватель, потрескивая в ответ ветру, как бы ворча: «Не пустим, и без тебя холодно!». А ветер все также выл и умолял. Тихое сопение маленькой девочки, безмятежно спящей на таком большом для нее разложенном диване, вторило их спору. Ее круглое пухлое личико, раскрасневшееся от жара, освещала тусклая лампа, стоящая в углу детской комнаты. Девочка хмурилась, маленькие бровки были сведены к переносице, и казалось, что вот-вот малышка тихонечко заплачет. Разметавшиеся по подушке волосы явно мешали ей и щекотали мягкую кожу. Укутанной двумя толстыми большими ватными одеялами, ей было душно и тесно, она часто ворочалась, бормотала что-то себе под носик и хмурилась еще сильнее. Незаметно открылась дверь и в комнату вошла молодая женщина. Уставшее и бледное от недосыпа лицо выражало беспокойство, глаза внимательно смотрели на тяжело дышащую девочку, а тонкие пальцы легли на ее горячий лоб с такой нежностью, с какой может выразить свою заботу и печаль встревоженная мать. В другой руке она осторожно держала небольшую кружку горячего молока с луком и медом, которое так не любит ее дочка. Только женщина убрала свою руку, как малышка медленно и нехотя проснулась. Взгляд серых глаз был устремлен на лицо мамы, она вытащила из под одеял свои ручки и тихонько протянула их к кружке. - Осторожнее,- мягким голосом сказала ей мать,- Погоди, я сама. И взяв маленькую ложку, она зачерпнула немного молока, осторожно подув на него, чтоб остудить, протянула в полуоткрытый рот девочки. Заглотнув, ребенок едва поморщился. До чего же противно было чувствовать этот дурацкий вареный лук. Спустя пару минут, выпив, наконец, это противное молоко, девочка присела на подушку, откинув тяжелые одеяла и вытащив по колено свои ножки в таких больших для нее и колючих шерстяных носках. Заметив это, ее мама поспешила скорее вновь укутать свое чадо в покрывала: «Холодно же, ну чего ты раскидала все?». Девочка тихо прошептала в ответ, будто боясь рассердить кого-то: «Мам, а мам, а почитай мне». - Что тебе прочитать? Ты так сейчас уснешь и без книжки». - Ну, ма-а-ам, - запротестовала дочурка. Тяжело вздохнув и убрав с мокрого лба растрепанные волосы, женщина взяла небольшую толстую книжку в мягкой обложке: - Хорошо, но только если одну. Обрадовавшись этому, девчушка послушно легла на теплую подушку и, устроившись поудобнее, приготовилась слушать мамин рассказ. Раскрыв книгу, женщина пролистала пожелтевшие от времени страницы и наконец, остановилась на более подходящей по ее мнению для этого вечера сказке. «Сказка о нерпе и добром охотничьем сыне. Далеко, дальше, чем каждый может представить, есть земля, где царствует лед и суровые ветры. Недоступная и отчужденная от всего остального мира, она сокрыта в вечных ледниках, высоких густых лесах, верхушки деревьев которых, устремляясь ввысь, пронзают бескрайнее северное небо. Там, на этой таинственной земле яркий, но холодный день и покрытая мелкой россыпью звезд ночь делят год между собой напополам. В этом промерзлом и жутко холодном мире есть и своя жизнь. Покрытые надежной защитой – теплым жиром и густым мехом, проваливая лапы в снег, ходят по этой земле диковинные животные, белые, как молоко. Их большие черные глаза давно привыкли к окружающей яркости белого света. А на берегу ледяного океана, словно люди, ходят на своих маленьких лапках большие и крупные птицы, размахивая крыльями только для того, чтобы не упасть. Бок о бок с этими странными животными не менее странные люди. Всегда одетые в теплые и тяжелые шубы, жмурясь от яркого солнца, они проламывали лед в холодном море и ловили рыбу, приручали косматых оленей, и даже иногда удавалось приручить и кровожадных волков, сделав их ручными и домашними. А ночью, укрываясь от снежных бурь в теплых юртах, собираясь в большую семью, они рассказывали друг другу о том, что произошло с ними за день. Так и жил этот народ, используя все блага природы, ради всеобщего выживания. Испокон веков складывались их традиции и обычаи, слагались легенды и мифы. Одна из важных традиций – рассказывать перед первой охотой юношам и девушкам древнюю легенду об Аренке. Жил на холодной земле славный охотник по имени Хота. И был он уважаемым человеком в племени, потому как в своем деле не было ему равных – рыбы приносил он больше всех и в поход на зверя раньше всех поднимался. В теплом и надежном доме его заботой окружала красавица жена, вкусная еда. Счастливым человеком считался Хота среди соплеменников. Так оно и было бы, да вот не хватало ему главного счастья. Который год в его семье рождались одни дочери, а сына ему милая жена все никак не может дать. Побоялся Хота, что придется ему все свое богатство на приданное дочерям отдать и взмолился местному шаману: «Упроси духов мне сына, исчезнет мой род под дочками! А я в долгу не останусь, о, мудрый Телатки, я тебе много рыбы дам, меха и мяса!». Согласился шаман, разжег ритуальный костер и в скором времени дал свой ответ: «Великие духи земли и неба решили так – будет у тебя сын, прекрасный, словно дневная звезда и храбр, словно дикий волк. Но увидит он белый свет лишь после долгой северной ночи. Жди его, когда он придет к тебе, назови его Аренком». Не обманул старик. Прошла суровая северная зима и в семье Хоты наконец-то появился долгожданный сын. Хота, как и обещал, дал ему имя Аренк. Шли годы, и вырос Аренк сильным, крепким и прекрасным юношей. Пришло время и для его первой охоты. - Ну, сын, - сказал Хота, - пора тебе себя показать, да мое имя не опозорить. Сделай все, чему учил. Возьми мое лучшее копье, мои лучшие лук и стрелы, собачью упряжку, и без хорошей добычи не возвращайся. Сделал Аренк так, как велел ему отец, простился с матерью и сестрами, и отправился в путь. Первым делом, решил Аренк в лесу охоту начать, чтоб добыча покрупнее была, тяжелее. Дорога его проходила рядом с ледяным морем, и видел он издали рыбаков из своего племени. Богатый у них был сегодня улов, пир в их племени намечался. - Может и мне по обратной дороге здесь попробовать? - задумался Аренк. – Коли зверя не поймаю, так рыбы много наберу, ведь тоже неплохо. С такими мыслями доехал он до высокого леса. Тишина царила там, казалось, что и нет никого здесь, вымерло все. Но знал Аренк до чего зверь бывает хитер и, взяв в руки копье, тихой поступью стал пробираться между деревьев. Долго он так шел, уже забрел вглубь, смотрел кругом, каждое дерево проверял, да никто ему и не встретился. Грусть напала на Аренка, половина дня уже прошло, а ему даже жалкая пичуга не встретилась. Походил он так по лесу, с надеждой хоть кого-то поймать, а после и вовсе вернулся к своей упряжке. - Закончатся скоро мои запасы, если на море кого-нибудь не поймаю, придется с пустыми руками домой возвращаться. - Думал юноша и во всю опору гнал он своих собак. День уже клонился к закату, выйдут стаями из своих нор дикие волки, из дупла деревьев вылетят совы. Не хочется Аренку встречаться с ними, учил его отец, что человек властен днем, когда все видит, а ночь принадлежит диким зверям. Спешит он поскорее к ледяному морю, но и там, как назло, не поймал он рыбы. Еще грустнее стало ему, казалось, что духи прогневались на семью Хоты, не дают сыну добычи в первую охоту. А запасы еды, как и день, все заканчивались, и вот уже мрак застилал тихонечко землю, алым заревом прощалось на ночь солнце. Ничего тут не поделаешь, придется возвращаться. Лучше с позором, но живым, чем сгинуть в холодной ночи. Собравшись, Аренк уже хотел дернуть за поводья, как вдруг почудилось ему, что слышит он маленький рев, словно ребенок плачет где-то. Оглянулся он вокруг и действительно: вдалеке от него, прямо на льду, лежала большая-пребольшая серая рыба и беспомощно била хвостом белую твердь. Обрадовался Аренк, такая рыбешка и за олененка сойдет. Быстрее подбежал он к своей долгожданной добыче и видит, что не рыба это вовсе, а маленькая нерпочка. Толстенькая, кругленькая, шерстка на бочке серая, усики маленькие, а черные большие глаза так и слезятся, видно домой хочет. - Ну, наконец-то,- сказал ей Аренк, - хоть кого-то сегодня принесу. Видимо плохо тебе тут, угощу-ка я тобою все свое племя. И громко-громко засмеялся. А нерпочка все смотрит на него, а на её глазах так слезы и наворачиваются. Взревела она, когда сильный Аренк поднял ее. Дотащил он нерпу до упряжи и уже хотел привязать, как слышит, собаки встревожились, завыли, залаяли, все к Аренку кидаются, за рукава кусают. Удивился Аренк: - Да что вы, есть хотите что ль? Так я дам кусочек, заслужили! Но лишь сильнее залаяли собаки, рычат, вот-вот накинутся на него. Пытается Аренк их успокоить и тут слышит, что кто-то тихонечко за его спиной воет, плачется. Протяжно взвывала к нему нерпа и все смотрела на него, будто молила пощадить, хвостом била воздух, хотела уплыть, да не могла, не в воде. Горестно стало юноше, стыдно. Прежняя охотничья прыть как будто испарилась, исчезла, и спросил себя Аренк: - Неужели я жесток и кровожаден как зверь лютый, что на беззащитного детеныша руку подниму? Нет, не был таким Аренк, силен был телом, а душой родился еще сильнее. Взял он отцовское копье, схватился посильнее и начал во льду дыру прорубать. Вот уже ночь на подходе, а он все держит копье, да лед рубит. Не заметил Аренк, как по копью от силы трещина пошла и все больше и больше становится. Еще чуть-чуть добить осталось, пару раз и готов выход. И вот, наконец, провалился лед, открылась под ним сине-черная вода и тут же с последним ударом, разломалось лучшее копье Хоты, отлетел от него дротик, раскололось древко. Жалко стало Аренку отцовского подарка, положил он обрубки в сани. Долго на него смотрела нерпа, глаза больше не плакали, а лишь внимательно следили за юношей. Заметил это Аренк и робко протянул ей руку, не решался без этого взять он ее на руки. Легонько он погладил ее серый и теплый бочек, и с этим такая радость вдруг в его сердце проснулась, что тепло стало на душе у Аренка, и не заметил он, что над головой его уже во всю сияли полярные звезды. Ласково он поднял нерпу и понес к проруби, хотел уже опустить пленницу в воду, да глянул напоследок в ее полные благодарности глаза и, тяжело вздохнув, сказал: «Не поминай меня плохим словом. Ну, плыви к мамке». С этими словами окунул он ее в воду, извернулась в его руках нерпа и нырнула в глубину. Долго смотрел ей вслед Аренк, улыбаясь, будто доброго друга в далекий путь отпустил, а после, увидев отражение белой луны, поднял голову. Дух захватило у него при виде многочисленных звезд, мерцающих на фоне бесконечной тьмы. Все радостнее и легче становилось на душе Аренка. Хотелось ему, и смеяться, и петь самую красивую песню его народа, и плакать от восторга, что вызвали яркие огни ночного неба. Так загоралась душа Аренка и словно эти звезды, на покрытом желанием добычи сердце, замерцала любовь. И было это чувство сильнее любых желаний и страсти. Понял вдруг Аренк, что его единственный долг - это любовь»… Маленькая девочка внимательно, не смыкая глаз, слушала рассказ матери. Она с замиранием следила за каждым ее словом. - И это все? - спросила своим тоненьким голосом она.- А как же его отец? Куда он пойдет? Перевернув очередную страницу, мама ответила: - Слушай дальше. Когда Аренк вернулся с пустыми руками домой, отец его, Хота, думал уже наказать своего нерадивого сына. Уже поднял он руку, и готов был принять юноша боль перед всем племенем, но не получив ожидаемого удара, обернулся. За руку Хоту держал шаман, Телатки. Его яркие и добрые глаза, не отрываясь, смотрели на Аренка. - Стой, Хота, - обратился он к его отцу, - солнце царит на земле, да не видишь ты, что сын твой не по глупости без добычи пришел. - Тогда что же, духи ему силы не дали или ума? Может, они злы на мою семью? Встревожился народ, что такого мог сделать столь храбрый и честный охотник, что проклята его семья? А если не только на него? Улыбнулся шаман: - Нет, Хота, не гневны на тебя духи. Да только не тому ты копье даешь в руки. - Они, - указал Телатки на небо и провел рукой вокруг, - велели дать твоему сыну имя Аренк, но разве велели тебе его учить охоте? Отпусти его, Хота, не поднимет он руку на живое создание, но и с позором ходить не станет. Лучше отдай мне его в ученики, старее я всех вас и мне помощник нужен. А ты увидишь, сын твой духами избран. Послушался Хота шамана. - Если это так, Аренк, - сказал он своему сыну, - то отпуская тебя, наказываю: помогай шаману в его делах, учись всему, что он велит, и честно служи духам, что дали тебе жизнь. Таков мой последний тебе урок… Снова, под вечно меняющимся светилами небом, шли годы. Аренк, возмужав, получил от шамана всю его мудрость и стал вместе с ним, с тем же добрым и чистым сердцем, что открылось ему в ту далекую полярную ночь, стал помогать своему племени, навещал родных сестер с их семьями и отца с матерью. Горд был Хота за своего сына, а потому рассказывал его историю и детям дочерей, а те в свою очередь и своим детям. И так теперь старейшина рассказывает ее совсем еще молодым юношам и девушкам, пока над их головами сияли яркие полярные звезды»… Женщина посмотрела на свою дочь. Та, не закрывая глаз, неотрывно следила за ее руками. В ее голове четко вставали образы сильного и богатого охотника Хоты с его красивой женой, их соплеменников в густых мехах и теплых шубах, маленькой и беззащитной нерпочки, мудрого и доброго старого шамана Телатки и его счастливого ученика, чье красивое лицо искрилось от переполнявшей его любви и радости ко всему живому. Образ Аренка, полярной звезды. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 25 декабря – Рождество Христово по григорианскому календарю (Католическое Рождество) Большая кошка из Довре Норвежская сказка Жил когда-то в Финнмарке человек, который поймал белого медведя и повёл его в Данию на королевский двор. Случилось так, что рождество застало его в пути. Он остановился возле горы Довре, где стоял один-единственный дом, в котором жил человек по имени Халвор. И вот путник спросил хозяина, нельзя ли ему с белым медведем переночевать в доме. - Упаси Бог! — воскликнул хозяин. — Мы не можем никого пустить на ночлег, потому что сами остаёмся без крыши над головой. Каждый год на рождество в наш дом являются тролли и празднуют всю ночь, и их так много, что нам ступить некуда и приходится самим уходить из дому. - Ну, тогда ты можешь пустить нас переночевать. Медведь ляжет под печкой, а я могу спать в чулане , — сказал путник. И так долго он упрашивал хозяина, что наконец упросил, и тот пустил его на ночлег. А хозяин и вся его семья собрались и ушли из дому. Но перед тем как уйти, они накрыли богатый стол, поставили и сладкую рождественскую кашу, и рыбу, и разные колбасы, и всё вкусное, что полагается подавать дорогим гостям. И что вы думаете? Действительно, в дом пожаловали тролли — и старые, и молодые, и детишки. У одних был длинный хвост, у других — покороче, а некоторые вообще бесхвостые. И у многих были длинные-длинные носы. И все они ели, пили и пробовали всё, что стояло на столе. Вдруг один маленький тролль увидел под печкой белую шкуру. И вот этот мальчик-тролль взял сосиску, воткнул в неё вилку и подошёл к печке, чтобы поджарить сосиску на огне. Потом наклонился к медведю и спросил: - Киса, киса, хочешь колбаски? А сам суёт горячую вилку прямо медведю в нос. Медведь проснулся, да как подскочит, да как зарычит — тут все тролли один за другим кинулись вон из дому. Убежали все — и носатые, и хвостатые, и бесхвостые, и старые, и молодые, и детишки. Через год бедный Халвор, как всегда перед рождеством, отправился в лес нарубить дров, чтобы натопить как следует печь к приходу троллей. Рубит он себе и рубит, и вдруг из лесу раздаётся страшный голос и зовёт его: - Халвор! Халвор! - Я тут, — отвечает Халвор. Голос спрашивает: - Где твоя большая кошка? - Дома, — отвечает Халвор. — Лежит под печкой. Она окотилась, принесла шестерых котят. И все они уже больше её и ещё злее, чем она. - Тогда мы больше никогда не придём к тебе! — крикнул тролль. С тех пор тролли не едят сладкую рождественскую кашу в доме Халвора в Довре. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРОШЕДШЕМУ ПРАЗДНИКУ С НОВЫМ ГОДОМ! Виктор Голявкин Новогодняя сказка Шёл снег, а в снегу шли Деды Морозы. Они шли не спеша, оживлённо беседуя. Заполнив все улицы, шли Деды Морозы, и не было им конца и краю. Снег кружился и блестел; если внимательно присмотреться, то можно увидеть мохнатые брови, длинные бороды. Только лиц совсем не видно, сколько ни присматривайся. Это только Деды Морозы могут так ходить, чтобы их лиц не было видно. Но если внимательно прислушаться, то можно было услышать приглушённый говор, кашель, смех и как они шмыгают простуженными носами. Каждый из Дедов Морозов нёс под мышкой подарок. Но этого уж, конечно, не было видно. Этого никогда не видно, хотя каждый раз в Новый год все Деды Морозы проходят по улицам всех городов с подарками. Иногда, когда снег не идёт, Дедов Морозов вообще не видно. Даже бород и бровей не видно. Но это бывает редко. Потому что в новогоднюю ночь снег почти всегда идёт. Каждый раз в Новый год поздно ночью в дом к мальчикам и девочкам заходит Дед Мороз, с которым они познакомились во сне. Ведь не может быть, чтобы ты никогда не встречался во сне с Дедом Морозом — одни раньше, другие позже, но обязательно встречаются. А если дети находят подарок у своей кровати, но уверяют, что они никогда не встречались во сне с Дедом Морозом, то они просто этого не помнят. Непременно встречались. Раз утром нашли подарок у своей кровати. Откуда же он мог тогда взяться, сами посудите! Так вот, во время одного такого новогоднего шествия один Дед Мороз споткнулся, выронил подарок, и очень хорошая детская игрушка, которую он нёс в подарок, сломалась об лёд, а конфеты и печенье рассыпались по снегу. Ему некогда было идти за новым подарком: утро Нового года уже подходило и он всё равно бы уже не успел. И этому Деду Морозу пришлось только потереть ушибленное колено и отправляться обратно к себе домой. Он побрёл обратно печальный и расстроенный, потому что никак не мог выйти из своего положения. Все Деды Морозы шли в одну сторону с подарками, а он шёл в другую пустой. Это было, безусловно, печальное зрелище. Хотя этого никто не видел. У него даже слёзы капали из глаз; ему было очень тяжело, что он не может принести подарок своему маленькому приятелю, с которым он познакомился во сне. Это был неудачливый Дед Мороз, как бывают и неудачливые люди. Но неудачливые люди не всё же время бывают неудачливыми. И Деды Морозы то же самое. Если он в этом году споткнулся, то не споткнётся же он опять в следующем году! И он твёрдо решил, что на следующий год он принесёт своему малышу не одну, а две игрушки, конфет и печенья в два раза больше. Так что тот мальчик или девочка, которые, проснувшись, не нашли своего подарка, получат его непременно в следующем году. И притом в двойном размере. Я никак не думаю, что этот Дед Мороз ещё раз споткнётся, да так неудачно. Если уж споткнётся, то какой-нибудь другой Дед Мороз. А может, никто не споткнётся. Тогда всем будут подарки. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 7 января - Рождество Христово по юлианскому календарю (Православное Рождество) Звезда печалей Рождественская сказка Автора не знаю. Взято отсюда: http://skazki.org.ru/tales/zvezda-pechalej-rozhdestvenskaya-... Случилась эта история в канун Рождества. Ехал в троллейбусе Бедный Студент. Ехал и сам не знал, куда, от холода ежился: пальтишко на нем было плохонькое. Вчера студент безнадежно завалил Самый Главный Зачет, а нынче утром из-за какой-то ерунды в пух и прах поссорился с Лучшей Девушкой На Свете. И так у него на душе было скверно, что и сказать нельзя! Стоит у промерзшего окошечка, отчаивается, себя жалеет. А тут на остановке зашла в троллейбус женщина. Лицо — обыкновенное, усталое, самую малость легкой улыбкой согретое, одежда немодная, а на голове — шаль синяя, огромная, до полу. И вся эта шаль серебристыми звездами расшитая, похоже, из фольги нарезанными. И вся эта шаль серебристыми звездами расшитая, похоже, из фольги нарезанными. — Ишь, — думает Студент, — вырядилась! Праздновать, наверное, собралась. А может, не в себе… И от женщины той отодвинулся. А та постояла рядом недолго да через остановку и вышла. Глядит Студент, а одна из звезд тех серебряных к его рукаву прицепилась. Хотел стряхнуть — не вышло: лежит звезда на ладони, чуть светится и на ощупь теплая. Удивился студент и на пассажиров покосился: не смеется ли кто над ним за то, что на фольговую звезду залюбовался. Глянул — и обмер, как будто на миг дышать ему нечем стало! Иль нет, не так! Точно в груди у него заныло больно-больно и тонко… Показалось ему, что всех этих людей в троллейбусе он много лет знает. Вот мальчик, что на заднем сиденье скорчился, в черную прогалину на стекле засмотревшись… Он ведь из больницы едет, матушка его больна, а его к ней не пустили: вчера только прооперировали, тяжелая еще… А вот старик, он внукам гостинцев накупил, а продавщичка лоточная обсчитала его и конфет недодала. Не знает он пока, домой приедет, хватится — заплачет. Женщину в проходе, принявшую гордый и неприступный вид, дома муж бьет. Который день в запое он уже. У прыщавой девчушки в уголке — любовь несчастная, месяц назад отравиться хотела, дурочка, благо, врачи откачали… Страшно стало Студенту. Выскочил он на улицу, а там не легче. На кого Студент не посмотрит, у каждого видит на душе печаль, иной раз — невеликую, а порой такую, что не приведи Господь! А ему, Студенту, ни от одной не отмахнуться, чувствует он чужую боль, как свою, людей этих всех так ему жалко, что слез не сдержать. Идет, плачет чуть не в голос, а лицо — счастливое. Люди вслед ему смеются: "Раненько, браток, нализался!" И тут чует Студент рядом Отчаянье чье-то страшное. Видит, трясется у витрины богатого магазина Нищий Пьяница, милостыню просит. Физиономия у него синяя, опухшая, вот никто и не подает. "Помру ведь, — думает Пьяница, а сам зубами стучит, — помру, если не выпью! Ох, худо-то как! Хоть бы одна сволочь копейку бросила! Да будьте вы все прокляты! Ведь помру же! Да и выпью, поди, помру…" Порылся Студент в карманах — пусто, ничего у него подходящего нету. Студенческий билет не подашь ведь! Взял и положил Пьянице в ладошку звездочку из фольги. И дальше пошел, полегче ему на душе стало, люди на пути все больше веселые попадаться начали. Полквартала не прошел, встретил друга, хорошего друга, настоящего, старого. И тот Студента на праздник к себе домой пригласил. А Нищий Пьяница стоит у витрины, в кулаке звезду волшебную прячет да по сторонам испуганно башкой нечесаной вертит. Глядит он на прохожих и всех жалеет. Старушку с палочкой — за то, что дочка писем ей не пишет, дядьку в очках — за то, что работу не может найти, тетку в вязаной шапочке — за то, что зарплату ей не платят. А тут к ногам его прибился Желтый Щенок. Его хозяева из дому выгнали, когда он у них паспорта съел. "Подумаешь, паспорта! — возмутился Нищий Пьяница. — Кому они нужны! Я вот уж три года, почитай, без паспорта — и ничего! А щенок-то какой хороший! Замерз…" Нагнулся Пьяница, давай Щенка оглаживать. А звезда серебряная к желтому бочку пристала. Умиляется Пьяница, и смеется, и носом шмыгает. Вдруг, откуда ни возьмись, подлетает к нему паренек молодой, малость в подпитии, но видно, что из богатеньких. "Что, — говорит, — мужик, все на бутылку не наскребешь? Вот, держи, выпьешь за мое здоровье!" И отвалил Пьянице целый полтинник. Тот аж затрепетал весь. Побежал в магазин, взял водки да колбасы маленько. Щенка хотел угостить, да того уж и след простыл. Ну что ж! Пошел к себе в подвал, в нору свою крысиную. Тепло там и свет есть, в общем, все же жить можно! По дороге бутылку открыл, выпил, хорошо ему стало. В подвале отогрелся, закусил, снова выпил. Начал жизнь свою горемычную вспоминать. Доброго-то ничего не было… Жаль! К чему такая жизнь, прости, Господи! Мука одна! Сидит, шепчет: "Прибрал бы ты меня, Господи, родимый! Прости, Господи, меня! Дурно жил я, людей нынче зря ругал. Неправда в том, добры люди…" Шептал, шептал, да и уснул. И снился ему Бедный Студент с Желтым Щенком на руках. Утром нашел Нищего Пьяницу приятель, Старый Бомжик. Долго он потом удивлялся, какая улыбка счастливая на лице у мертвого Пьяницы была… А Желтый Щенок со звездой на боку все бежал, бежал по улицам и выбежал наконец на площадь. Людно там, памятник стоит. Глядит Щенок на Памятник и думает: "Тоже ведь не любит его никто! И холодный он какой — дальше некуда! Погрею его…" Ботинок каменный лизнул, о штанину каменную потерся спинкой. Тут ветер подул, холодный-прехолодный, звезду со щенячьего бока сдул и в поднятую каменную руку бросил. Потеплел Памятник. Голову наклонить он не может, людей ему не видно, а видно елку рождественскую, она, Памятника чуть не в два раза выше, посреди площади стоит. И составлена та елка из настоящих маленьких деревьев. Пожалел их Памятник. "Бедные милые деревца! — думает. — Не видать вам весны!" И уронил звезду с руки на колючую ветку. А ветер вновь подхватил ее и унес на самую верхушку огромной елки. И в этот миг… Звезда засияла ярко-ярко, на елке зажглись огни, и начался праздник. Люди веселились, пели и катались на ледяных горках. Столько народу собралось на площади, почти весь город! Пришли туда и Бедный Студент, и Лучшая Девушка На Свете. Конечно же, они встретились. И Лучшая Девушка На Свете сказала Студенту: "Любимый! Я весь день проплакала! Знаешь, по-моему, я не могу без тебя жить!" А Бедный Студент сказал: "Давай поженимся!" И получил согласие. Они долго гуляли по площади, болтая о разных чудесных пустяках и строя планы на будущее. На ступеньках Памятника они нашли Желтого Щенка, и Бедный Студент посадил его за пазуху своего немудреного пальтишка. "Наверное, он будет грызть книжки," — вздохнул Студент. "Пусть грызет, — улыбнулась Лучшая Девушка На Свете, — ведь он — наше первое семейное приобретение!" А потом они пошли домой, Студент и Девушка целовались, а Желтый Щенок норовил по очереди лизнуть их в нос. Студент был так безгранично, так невозможно счастлив, как можно быть счастливым только единожды в жизни. На мгновение он вспомнил, что несколько часов назад брел по улице, задыхаясь от жалости к совершенно чужим, незнакомым людям. "Это все звезда виновата," — удивленно подумал он и оглянулся на елку. Желтый Щенок смотрел на него понимающе. Потом студент вспомнил женщину в синей шали, ту, из троллейбуса, и сердце его сжалось: как она там? Сколько же у нее на шали таких звезд было нашито?! Но счастья в мире было так много, что он скоро перестал о ней думать. Так бывает каждый год… . |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 14 января — Старый Новый год Михаил Лекс http://samlib.ru/l/leks_m/v-noch-pod-staryj-novyj-god.shtml В ночь под Старый Новый Год В ночь под Старый Новый Год Тимур Яковлевич Старовойтов не ложился спать. Не хотелось. Все домашние Тимура Яковлевича уже давно спали и видели счастливые сны, и только хозяин дома, как тень, бродил по квартире и сожалел. Он сожалел о прожитой жизни, о том, что так ничего в этой жизни не понял, и ничего от неё хорошего не получил. А ещё он сожалел о том, что за всю свою жизнь ни у кого ничего не просил, и ничего не желал. Мужику, можно сказать, уже скоро на пенсию, Тимуру Яковлевичу в ноябре исполнилось пятьдесят семь лет, а он ни разу, за всю свою жизнь, ни у кого ничего не попросил. Всего и всегда добивался сам. Не нуждался в посторонней помощи. Таков был принцип Тимура Яковлевича и следовал он ему неукоснительно в течении всей своей жизни. И вот тут на тебе! Случилось! Задумался герой нашего рассказа о том, что неплохо, наверное, было бы и ему кого-нибудь и о чём-нибудь попросить. Конечно же, когда Тимур Яковлевич думал о том, что кого-то и о чём-то просить, то речь шла не о людях. Впервые Тимур Яковлевич задумался о некой высшей силе, которая, наверное, вполне возможно, что и есть. - Тима, ты что, ещё не ложился? - спросила супруга Тимура Яковлевича, Елена Михайловна, заходя на кухню и видя там своего супруга, стоящим у окна и задумчиво глядящим в ночную мглу. Елена Яковлевна ласково называла своего мужа Тимой, а он, в свою очередь, когда был с женой нежным, то обращался к ней не иначе, как... Ленок. - Да вот, Ленок, - ответил Тимур Яковлевич. - Не спится. Смотрю вот в окно и думаю. - Думаешь? - удивилась Елена Михайловна. Тимур Яковлевич не обратил никакого внимания на скрытую иронию в вопросе Елены Михайловны. Да и его можно понять. Когда человек думает о чём-то, он не замечает за другими людьми ничего худого. Тем более, иронии в свой адрес. Он прижал к себе свою любимую жену и поцеловал её в затылок. - Смотри, какой красивый снег, - сказал Тимур Яковлевич, - как в кино. - Давай выключим свет, - восторженно предложила Елена Михайловна, - станет ещё загадочней. Будет больше походить на сказку. Елена Михайловна выключила свет на кухне и вернулась к мужу. Счастливые, они стояли у окна и смотрели на падающие снежинки, которые, как тысячи белых мотыльков, кружили в свете уличных фонарей. - Ты представляешь, Ленок, а ведь я никогда и никого ни о чём не просил, - задумчиво произнёс Тимур Яковлевич. - Так в чём дело, Тима? - ответила Елена Михайловна. - Ты попроси. - Ты думаешь? - испугано спросил Тимур Яковлевич. - А не поздно? Ведь, считай вся жизнь прошла. - Может, сейчас, Тима, самое время, - тихо прошептала Елена Михайловна. - Когда вся жизнь прошла. Тимур Яковлевич нежно поцеловал жену и они пошли спать. Следующим утром Тимур Яковлевич проснулся, можно сказать, совершенно другим человеком. Тимур Яковлевич решил начать новую жизнь. Это раньше он был человеком, который всего добивался сам и ни у кого ничего не просил. Но с этого дня Тимур Яковлевич решил, что с него хватит. В конце концов, имеет он право, или нет? Почему одним всё, а ему, видите ли, ничего! И даже, когда Тимур Яковлевич чистил зубы, то, глядя на себя в зеркало, он видел, что стал совершенно другим человеком. Какой-то... блеск, что ли, появился в его глазах. Да и тёмные круги под глазами, вроде, стали не так заметны. - Ты себя хорошо чувствуешь, папа? - спросила за завтраком дочка. - Я чувствую себя как никогда превосходно, - ответил Тимур Яковлевич. - А почему ты спросила? - Да так, - ответила дочь. - Какой-то ты сегодня не такой. Может тебе температуру смерить? Тимур Яковлевич сказал, что ничего ему мерить не надо. После завтрака он вышел во двор, с тем, чтобы прогуляться и исполнить своё намерение. Тимур Яковлевич точно знал, что с этой проблемой надо обращаться не к обычным людям, а к существам, наделенным определенным могуществом. В понимании Тимура Яковлевича под эти категории попадали только два вида существ: Боги и Волшебники. И, поскольку, ни тех, ни других Тимур Яковлевич ни разу в жизни не видел, а знал о них исключительно по сказкам, которые ему в детстве рассказывали сперва бабушка, а потом мама, то решил прежде выяснить, где их найти. С этим вопросом он обратился к своему соседу, Степану Григорьевичу Карандышеву, которого встретил в тот час на улице. - А что, Степан Григорьевич, как думаешь, Волшебники существуют? - спросил Тимур Яковлевич. - Известное дело, Тимур Яковлевич, конечно, существуют, - уверенно ответил сосед. - А Боги? - спросил Тимур Яковлевич. - Боги есть? - И Боги есть, - отвечал сосед. - А тебе на что? - Да вот, Степан Григорьевич, подумал я, что пришло и моё время их кое о чём попросить, - ответил Тимур Яковлевич. - Я ведь, ты же меня знаешь, никогда и ни у кого ничего не просил. Так почему бы и не попробовать. - А и в самом деле, Тимур Яковлевич? - заботливо отвечал сосед. - Почему и нет. Попробуй. Тебя не только я, а и все знают, как честного и неглупого человека. Каждый про тебя скажет, что ты никогда и ни у кого ничего не просил. Всего добивался сам. В посторонней помощи не нуждался. Такой твой, стало быть, жизненный принцип. И я тебе вот что, соседушка, скажу. Кому и пробовать-то, как не тебе. - Ну да, ну да, - тихо молвил Тимур Яковлевич. - Вопрос только в том, где их найти. - Волшебники, они, Тимур Яковлевич, всё больше, наверное, в лесах живут. - Почему в лесах? - испуганно спросил Тимур Яковлевич. - Наверное, чтобы от людей подальше, - пояснял сосед. - А вот Боги, Тимур Яковлевич, те - ближе. - Где? - поспешно спросил Тимур Яковлевич. - В церкви, - уверенно отвечал Степан Григорьевич. - Сам-то я не верю, но люди знающие, если что насчёт Бога, то они в церковь ходят. - В церковь? - задумался Тимур Яковлевич. - Что-то мне как-то боязно в церковь-то идти. - А коли боязно, соседушка, так ты и не ходи, - заботливо ответил Степан Григорьевич. - Чего же себя пугать-то понапрасну. Если боязно в церковь, то можешь в лес прогуляться, к Волшебникам. До леса отсюда недалеко. - Да мне, пожалуй, что и в лес-то, тоже страшно, - ответил Тимур Яковлевич. - Да, - согласился Степан Григорьевич, - зимой в лесу какая радость? Страх один. Но я так думаю, что они, Боги эти и Волшебники, специально такие места выбирают, чтобы страшно было. - Ты думаешь? - А то. Иначе бы у них отбоя от посетителей не было бы. - А ведь верно ты говоришь, сосед. Иначе бы и отбоя не было, от желающих-то. А? - О чём разговор! Знамо дело, что тогда к ним разве что по записи и можно было бы попасть. - Ну так я пойду тогда, - сказал Тимур Яковлевич. - К Богу? - спросил Степан Григорьевич. - Нет. Пока что в лес схожу. К Волшебнику. Они пожали друг другу руки и каждый пошёл в свою сторону. Степан Григорьевич - домой, студень кушать, а Тимур Яковлевич в лес, к Волшебнику. До леса было действительно недалеко, километра полтора. А вот в лесу было идти тяжело. Снега - по пояс. Через час только Тимур Яковлевич дополз до дома Волшебника. Ещё минут десять стучался к нему. - Вам что надо? - спросил Волшебник, выходя на крыльцо и с интересом разглядывая Тимура Яковлевича. - Извините, что без приглашения, - ответил Тимур Яковлевич. - Я вот Волшебника ищу. Вы, случайно, не Волшебник будете. - Ну, Волшебник, - ответил Волшебник. - Вот хорошо-то. А я хочу желание загадать. - Желание загадать? - воскликнул Волшебник. - Вы не подумайте, - поспешно заговорил Тимур Яковлевич. - Я за всю свою жизнь ни разу никого ни о чём не просил. У кого хотите спросите. - У кого же я здесь спрошу-то? - искренно поинтересовался Волшебник, оглядываясь по сторонам. - Да вот хотя бы у соседа моего, у Степана Григорьевича, - робко ответил Тимур Яковлевич. - Или хоть у жены моей спросите. - У Елены Михайловны? - поинтересовался Волшебник. - Да. Она женщина честная, она не соврёт, - ответил Тимур Яковлевич. - А вы что, и жену мою знаете? - Ну как же! - с чувством ответил Волшебник. - Как не знать! Жена человека, который никогда, ни у кого и ничего не просил. Знаем. Хорошая женщина. Вот что, мужик. Давай сделаем так. Я тебе верю. Загадывай быстрее желание и я пойду. Честное слово, стоять в одном халате на морозе не очень. Веришь? - Верю, - ответил Тимур Яковлевич. - Загадывай. - Хочу, чтобы у меня и жены моей, и у детей моих всё было хорошо со здоровьем, - сказал Тимур Яковлевич. - Как вам такое желание? Исполните? Волшебник скорчил кислую физиономию и посмотрел куда-то в даль, куда-то за спину Тимуру Яковлевичу. Тимур Яковлевич терпеливо ждал ответа Волшебника. - Нет, брат, - ответил наконец-то Волшебник, глядя прямо в глаза Тимуру Яковлевичу. - Не исполню. Потому как никакое это не желание. - А что это? - спросил Тимур Яковлевич. - Что это? - повторил вопрос Волшебник. - Это, друг мой, просьба. - А просьбу нельзя? - С просьбой, голубчик, к Богу ступай. Волшебник ещё раз взглянул вдаль, скорчил кислую физиономию и скрылся в своём доме. А Тимуру Яковлевичу, что? Делать нечего, надо идти к Богу. К восьми вечера только дошёл Тимур Яковлевич до церкви. Повезло ему. Бог ещё не ушёл. Он сидел в церкви за столом круглым и чай зелёный пил с лимоном. - Здравствуй, мил человек, - ласково обратился Тимур Яковлевич к Богу. - Можно мне в церкви тут у вас погреться. Замерз я сильно. Целый день на улице. - Да грейся, конечно. Садись вот за стол. Чаю горячего с лимоном выпей, - ответил Бог. - Вот только... какой же я тебе мил человек? - А кто ты? - спросил Тимур Яковлевич, присаживаясь рядом и наливая себе чаю. - Я? - удивился Бог. - Как кто? Так ведь... это... Бог я. Кто же ещё? А ты разве кого другого думал здесь встретить. - С просьбой я к тебе, - сказал Тимур Яковлевич. - С просьбой? - удивился Бог. - С какой стати? - Поскольку я человек, который никогда ничего и ни у кого не просил, а свидетелей тому много, то имею право. - Согласен, - ответил Бог. - Убедил. Проси. - Хочу, - говорит Тимур Яковлевич, - чтобы, значит, зарплату мне на заводе прибавили. Цены ведь растут. Сметана уже пятьдесят рублей триста грамм. Сделаешь? - Нет, - ответил Бог. - То есть... - воскликнул Тимур Яковлевич. - Как, нет? Почему, нет? - Не в моей это компетенции, - отвечал Бог, хлебая с блюдечка чай и макая туда баранку. - А в чьей это компетенции? - спросил Тимур Яковлевич. - С этим тебе к Волшебнику надо, - отвечал Бог, мусоля баранку беззубым ртом. - Я, брат, желаниями не занимаюсь. Я, вот хочешь верь, хочешь - нет, занимаюсь исключительно просьбами. Проси! И получишь. - Так я ведь разве не прошу? - удивился Тимур Яковлевич, вставая из-за стола. - Нет, друг мой, - отвечал Бог, помогая пожилому человеку выйти из церкви. - Ты желаешь. Вот если бы ты с просьбой ко мне! Тогда конечно! Тогда дело другое! А с желаниями это не ко мне. С желаниями это тебе в лес надо, к Волшебнику. Тимур Яковлевич пошёл домой, а Бог ещё долго стоял у входа в церковь и глядел ему вслед. А когда Тимур Яковлевич оглядывался, то приветливо кивал тому головой и махал рукой. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРОШЕДШЕМУ ПРАЗДНИКУ 25 января — Татьянин день Любовь ВОРОНКОВА Танин пирожок Все сидели за столом: дедушка, бабушка, мать и Таня. На столе стоял большой медный самовар и фыркал паром. Рядом с ним дымился горшок топлёного молока с коричневой пенкой. Чашки у всех были разные. У бабушки – голубая, у матери – с ягодками, у Тани – с петушками. У деда не было чашки. Он пил чай из стакана. А на стакане была только одна синяя полоска. Бабушка достала из печки блюдо горячей картошки. Поставила на стол большую миску студня. А Тане на блюдце бабушка положила пухлый румяный пирожок. Таня обрадовалась. – Эй, дедушка, – крикнула она, – а у тебя пирожка нету! А у меня-то есть! – Подумаешь, пирожок! – ответил дед. – А зато я вижу синенькую птичку, а ты нет. – Где, где синенькая птичка? – Да вон, на берёзе сидит. Таня высунулась из окна. Посмотрела на одну берёзу, посмотрела на другую. И на липу посмотрела. – Где же эта птичка? А дед встал, вышел на крыльцо, и когда вернулся, то опять сказал, что видел синенькую птичку. – Да ты не слушай старого! – сказала бабушка. – Он нарочно. – Вот ведь какой ты, дед, – рассердилась Таня, – всё обманываешь! Она села на своё место, хотела взять пирожок, а пирожка-то нет! Таня посмотрела на всех по очереди – кто взял пирожок? Мать смеётся. Только у неё пирожка нет. И у бабушки пирожка нет… А дед удивляется: – Что? Пирожок пропал? Э, да не его ли я сейчас во дворе видел? – Как так – во дворе? – Да так. Я иду в избу, а пирожок мне навстречу. Я спрашиваю: «Ты куда?» А он говорит: «Я на солнышко, погреться». А ну погляди, нет ли его на крылечке. Таня выбежала на крылечко, смотрит – и правда! Лежит пирожок на перильцах. Лежит, греется на солнышке. Таня обрадовалась, схватила пирожок и прибежала обратно. – Нашла беглеца? – спросила мать. – Ну вот и хорошо. Садись чай пить. Да ешь скорей свой пирожок, а то как бы опять не сбежал! А бабушка покачала головой и проворчала тихонько: – Эх, старый! И всё бы ему шутки пошучивать! |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРОШЕДШЕМУ ПРАЗДНИКУ 2 февраля — не только Всемирный день водных и болотных угодий, к которому я так и не подобрала сказку, но и День сурка Ю.Степанов Надо (из книги "Таблетки от непогоды: Литературные сказки") - Давай вместе жить, вместе работать, - говорит Байбак Еноту. - Одно дело на двоих - полдела. Согласился Енот и говорит: - Надо бы воды принести. - Надо, - согласился Байбак, - без воды обед не сваришь, - а сам растянулся на травке, облаками любуется. Енот принес воды и говорит: - Надо бы дров наколоть. - Надо, - согласился Байбак, - без дров обед не сваришь, - а сам лежит на травке, бабочками любуется. Енот наколол дров и говорит: - Байбак, надо бы обед сварить. - Надо, - согласился Байбак, - уже давно есть хочется. Енот сварил обед, поел и лег отдыхать. "И чего Енот ко мне привязался, - думает Байбак, - почему это все я да я? Если Енот считаться стал, то и я буду считаться". В это время на нос Байбаку сел комар и укусил его. - Енот, - говорит Байбак, - надо бы комара согнать. - Надо, - согласился Енот, - комар больно кусается. Стало Байбаку невыносимо больно. - Надо же комара согнать! - закричал он. - Надо, - согласился Енот. Байбак согнал комара и говорит: - Так, Енот, дело не пойдет. Я ухожу от тебя. Делай теперь все сам. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 11 февраля - Всемирный день больного А. П Чехов Беглец Это была длинная процедура. Сначала Пашка шел с матерью под дождем то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где к его сапогам липли желтые листья, шел до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в темных сенях и ждал, когда отопрут дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе, по при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало-помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, и вздремнул. Но вот щелкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка с матерью вошел в приемную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. Раз только, когда в приемную, подпрыгивая на одной ноге, вошел какой-то парень, Пашке самому захотелось также попрыгать; он толкнул мать под локоть, прыснул в рукав и сказал: — Мама, гляди: воробей! — Молчи, детка, молчи! — сказала мать. В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер. — Подходи записываться! — пробасил он. Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество, лета, местожительство, давно ли болен и проч. Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему семь лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи. Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать; через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенором: — Ну и дурак! Что ж, разве не дурак? Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь, дурак этакой, нога пропадет! Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собрался просить милостыню, заморгал и сказал: — Сделайте такую милость, Иван Миколаич! — Тут нечего — Иван Миколаич! — передразнил доктор. — Сказано в понедельник, и надо слушаться. Дурак, вот и всё... Началась приемка. Доктор сидел у себя в комнатке и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора: — Ну, что орешь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно! Настала очередь Пашки. — Павел Галактионов! — крикнул доктор. Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком. — Что болит? — спросил он, не глядя на вошедших. — У парнишки болячка на локте, батюшка, — ответила мать, и лицо ее приняло такое выражение, как будто она в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой. — Раздень его! Пашка, пыхтя, распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик. — Баба, не в гости пришла! — сказал сердито доктор. — Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут. Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху... Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу. — Важное, брат Пашка, ты себе пузо отрастил, — сказал он и вздохнул. — Ну, показывай свой локоть. Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал. — Ме-е! — передразнил доктор. — Женить пора баловника, а он ревет! Бессовестный. Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба: «Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал!» Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил. — Бить тебя, баба, да некому, — сказал он. — Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая! Гляди-кась, дура, ведь это сустав болит! — Вам лучше знать, батюшка... — вздохнула баба. — Батюшка... Сгноила парню руку, да теперь и батюшка. Какой он работник без руки? Вот век целый и будешь с ним нянчиться. Небось как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь, а мальчишку полгода гноила. Все вы такие. Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно, и всё думал о чем-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироса потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже: — Ну, слушай, баба. Мазями да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить. — Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить? — Мы ему операцию сделаем. А ты, Пашка, оставайся, — сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. — Пусть мать едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо, разлюли малина! Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, чижей пойдем ловить, я тебе лисицу покажу! В гости вместе поедем! А? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет! А? Пашка вопросительно поглядел на мать. — Оставайся, детка! — сказала та. — Остается, остается! — весело закричал доктор. — И толковать нечего! Я ему живую лисицу покажу! Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать! Марья Денисовна, сведите его наверх! Доктор, по-видимому, веселый и покладистый малый, рад был компании; Пашка захотел уважить его, тем более что отродясь не бывал на ярмарке и охотно бы поглядел на живую лисицу, но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать, но не успел он раскрыть рта, как фельдшерица уже вела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы и косяки — всё громадное, прямое и яркое — были выкрашены в великолепную желтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяло, оглядел палату и решил, что доктору живется очень недурно. Палата была невелика и состояла только из трех кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой, а на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, который всё время кашлял и плевал в кружку. С Паншиной кровати видна была в дверь часть другой палаты с двумя кроватями: на одной спал какой-то очень бледный, тощий человек с каучуковым пузырем на голове; на другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожий на бабу. Фельдшерица, усадив Пашку, вышла и немного погодя вернулась, держа в охапке кучу одежи. — Это тебе, — сказала она. — Одевайся. Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевши рубаху, штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме недурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовало, как мать посылает его на огород к реке нарвать для поросенка капустных листьев; он идет, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик. В палату вошла сиделка, держа в руках две оловянных миски, ложки и два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую — перед Пашкой. — Ешь! — сказала она. Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах кусок мяса, и опять подумал, что доктору живется очень недурно и что доктор вовсе не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку, потом, когда, кроме мяса, в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот всё еще хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его возможно дольше, но старания его ни к чему не привели: скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы, но делать было нечего, Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем. — А где же хлеб-то? — спросила сиделка. Вместо ответа Пашка надул щеки и выдыхнул воздух. — Ну, зачем сожрал? — сказала укоризненно сиделка. — А с чем же ты жаркое есть будешь? Она вышла и принесла новый кусок хлеба. Пашка отродясь не ел жареного мяса и, испробовав его теперь, нашел, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро, и после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик; Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок. Наевшись, он пошел прогуляться. В соседней палате, кроме тех, которых он видел в дверь, находилось еще четыре человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом; он сидел на кровати и всё время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой. Пашка долго не отрывал от него глаз. Сначала маятникообразные, мерные кивания мужика казались ему курьезными, производимыми для всеобщей потехи, но когда он вгляделся в лицо мужика, ему стало жутко, и он понял, что этот мужик нестерпимо болен. Пройдя в третью палату, он увидел двух мужиков с темно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они неподвижно сидели на кроватях и со своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих божков. — Тетка, зачем они такие? — спросил Пашка у сиделки. — У них, парнишка, воспа. Вернувшись к себе в палату, Пашка сел на кровать и стал дожидаться доктора, чтобы идти с ним ловить чижей или ехать на ярмарку. Но доктор не шел. В дверях соседней палаты мелькнул ненадолго фельдшер. Он нагнулся к тому больному, у которого на голове лежал мешок со льдом, и крикнул: — Михайло! Спавший Михайло не шевельнулся. Фельдшер махнул рукой и ушел. В ожидании доктора Пашка осматривал своего соседа-старика. Старик не переставая кашлял и плевал в кружку; кашель у него был протяжный, скрипучий. Пашке понравилась одна особенность старика: когда он, кашляя, вдыхал в себя воздух, то в груди его что-то свистело и пело на разные голоса. — Дед, что это у тебя свистит? — спросил Пашка. Старик ничего не ответил. Пашка подождал немного и спросил: — Дед, а где лисица? — Какая лисица? — Живая. — Где ж ей быть? В лесу! Прошло много времени, но доктор всё еще не являлся. Сиделка принесла чай и побранила Пашку за то, что он не оставил себе хлеба к чаю; приходил еще раз фельдшер и принимался будить Михайлу; за окнами посинело, в палатах зажглись огни, а доктор не показывался. Было уже поздно ехать на ярмарку и ловить чижей; Пашка растянулся на постели и стал думать. Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо и голос матери, потемки в своей избе, печку, ворчливую бабку Егоровну... и ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать придет за ним, улыбнулся и закрыл глаза. Его разбудил шорох. В соседней палате кто-то шагал и говорил полушёпотом. При тусклом свете ночников и лампад возле кровати Михайлы двигались три фигуры. — Понесем с кроватью аль так? — спросила одна из них. — Так. Не пройдешь с кроватью. Эка, помер не вовремя, царство небесное! Один взял Михайлу за плечи, другой — за ноги и приподняли: руки Михайлы и полы его халата слабо повисли в воздухе. Третий — это был мужик, похожий на бабу, — закрестился, и все трое, беспорядочно стуча ногами и ступая на полы Михайлы, пошли из палаты. В груди спавшего старика раздавались свист и разноголосое пение. Пашка прислушался, взглянул на темные окна и в ужасе вскочил с кровати. — Ма-а-ма! — простонал он басом. И, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату. Тут свет лампадки и ночника еле-еле прояснял потемки; больные, потревоженные смертью Михайлы, сидели на своих кроватях; мешаясь с тенями, всклоченные, они представлялись шире, выше ростом и, казалось, становились всё больше и больше; на крайней кровати в углу, где было темнее, сидел мужик и кивал головой и рукой. Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату оспенных, оттуда в коридор, из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушечьими лицами. Пробежав через женское отделение, он опять очутился в коридоре, увидел перила знакомой лестницы и побежал вниз. Тут он узнал приемную, в которой сидел утром, и стал искать выходной двери. Задвижка щелкнула, пахнул холодный ветер, и Пашка, спотыкаясь, выбежал на двор. У него была одна мысль — бежать и бежать! Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутится дома у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперед, обогнул сарай и наткнулся на пустые кусты; постояв немного и подумав, он бросился назад к больнице, обежал ее и опять остановился в нерешимости: за больничным корпусом белели могильные кресты. — Ма-амка! — закричал он и бросился назад. Пробегая мимо темных, суровых строений, он увидел одно освещенное окно. Яркое красное пятно в потемках казалось страшным, но Пашка, обезумевший от страха, не знавший, куда бежать, повернул к нему. Рядом с окном было крыльцо со ступенями и парадная дверь с белой дощечкой; Пашка взбежал на ступени, взглянул в окно, и острая, захватывающая радость вдруг овладела им. В окно он увидел веселого, покладистого доктора, который сидел за столом и читал книгу. Смеясь от счастья, Пашка протянул к знакомому лицу руки, хотел крикнуть, но неведомая сила сжала его дыхание, ударила по ногам; он покачнулся и без чувств повалился на ступени. Когда он пришел в себя, было уже светло, и очень знакомый голос, обещавший вчера ярмарку, чижей и лисицу, говорил возле него: — Ну и дурак, Пашка! Разве не дурак? Бить бы тебя, да некому. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 12 февраля наступает год Быка Евгений Чарушин Бык Забодай В Кировском лесном краю, в колхозе «Краснолесье», живёт очень злой бык. Этот бык породистый, весь рыжий, с большими и острыми рогами. Его зовут Забодай. Его так назвали не зря. Когда бычок был совсем маленьким сосунком, телёнком, он и тогда любил бодаться. Он бодал глупых крутолобых баранов, бодал козла Ваську, который жил вместе с лошадьми в колхозной конюшне и даже задирал деревенских собак. Ходит за ними по деревне, мычит и ногами роет землю. А когда Забодай подрос, он стал ещё хуже пошаливать. Стал этот телёнок бодать прохожих. Если ты идёшь мимо него без хворостины или без палки, Забодай поднимет свой хвост, притопнет передней ногой и бросится на тебя. Тут уж ты лучше беги. А то непременно Забодай забодает — сшибёт с ног. Самого председателя колхоза, Филиппа Сергеевича, старого красного партизана и охотника, когда тот сидел на плетне и курил трубочку, Забодай спихнул с плетня прямо в канаву с водой. Разбежался и ударил его головой в спину. Вот какой это был озорной телёнок! Настала осень. А вот и зима прошла. И вышел весной по поскотине в лес вместе со стадом уже не безрогий телёнок, а рыжий бычок ростом с добрую корову. Вырос Забодай. И в первый же день случилось такое: в лесу ходил медведь. После зимней спячки он был злой и голодный. Медведь обязательно задрал бы корову, но неподалёку щипал траву Забодай. Как увидел он медведя, стал он рогами его бодать, ногами топтать — и убил его. А потом так взбеленился, что кинулся на своего же пастуха и загнал его на дерево. С тех пор Забодая стали все бояться. Ему продели сквозь ноздри железное кольцо, приковали к цепи и заперли в коровник. * * * В тот колхоз «Краснолесье» приехала на лето со своей мамой одна девочка. Её звали Олечка. Однажды пошли они обе погулять. Олечкина мама взяла с собой зонтик. Зонтик был не дождевой, а от солнца. Он был пёстрый-пёстрый, красный с жёлтым. И очень красивый, будто какой-то большой, удивительный цветок. На лугах издалека его видно. Девочка Олечка и её мама вышли на лужок около деревни, положили на траву раскрытый зонтик и стали собирать цветы. И вдруг они слышат какой-то рёв и крики. Глядят: двери колхозного коровника распахнулись, и с громким рёвом и мычанием оттуда выскочил громадный бык. Это был Забодай. Он сорвался с цепи и разломал свою загородку в коровнике. Бык не спеша бежал по деревне прямо туда, где были Олечка с мамой. А за ним поодаль, опасаясь и останавливаясь, бежали люди. — Берегитесь! Берегитесь! — кричали они. — Бык вырвался, Забодай вырвался! А Забодай вдруг остановился. Он увидел Олечку с мамой на лугу, громко заревел, копнул копытами землю и во всю мочь кинулся к ним. Тут колхозники даже и кричать перестали. «Ну, — думают, — сейчас забодает бык обеих: и мать и девочку». Мать схватила Олечку на руки и побежала. Да разве от быка убежишь? Вон он как быстро скачет, вон он как страшно ревёт, вон у него пена изо рта клочьями падает на траву! Бежит Олечкина мама со своей дочкой, изо всей силы бежит. Вот уж близко какой-то маленький домик. «Добежать бы, добежать бы», — думает Олечкина мама. И вдруг она слышит: снова закричали колхозники. Только не разобрать что. Громко кричат, весело. Оглянулась она и видит: уж не бежит за ней бык, он остался далеко и кого-то бодает. Что-то красное, что-то жёлтое болтается у него на рогах. Это глупый бык с зонтиком воюет! Вдавливает его в землю лбом, топчет копытами. Олечкина мама добежала до домика. Это был хлебный амбарчик с дверьми-воротами. Вскочила в него, захлопнула за собой дверь, и тут уж обе они заплакали. Вот как напугались! Забодай на мелкие кусочки разорвал, растоптал пёстрый зонтик. Нечего ему больше бодать. Бык успокоился и стал мирно щипать траву. Выпустили к нему коров, и вместе со всеми коровами Забодай зашёл к себе в коровник. Там его, голубчика, снова посадили на цепь и крепко-крепко заковали. А Олечкина мама с Олечкой уехала из этой деревни. Им всё казалось, что бык непременно ещё раз выбежит и кого-нибудь забодает. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 14 февраля - Католический День святого Валентина (День всех влюблённых) Артур Конан Дойль. Любящее сердце Врачу с частной практикой, который утром и вечером принимает больных дома, а день тратит на визиты, трудно выкроить время, чтобы подышать свежим воздухом. Для этого он должен встать пораньше и выйти на улицу в тот час, когда магазины еще закрыты, воздух чист и свеж и все предметы резко очерчены, как бывает в мороз. Этот час сам по себе очаровывает: улицы пусты, не встретишь никого, кроме почтальона и разносчика молока, и даже самая заурядная вещь обретает первозданную привлекательность, как будто и мостовая, и фонарь, и вывеска - все заново родилось для наступающего дня. В такой час даже удаленный от моря город выглядит прекрасным, а его пропитанный дымом воздух - и тот, кажется, несет в себе чистоту. Но я жил у моря, правда, в городишке довольно дрянном; с ним примирял только его великий сосед. Но я забывал его изъяны, когда приходил посидеть на скамейке над морем, - у ног моих расстилался огромный голубой залив, обрамленный желтым полумесяцем прибрежного песка. Я люблю, когда его гладь усеяна рыбачьими лодками; люблю, когда на горизонте проходят большие суда: самого корабля не видно, а только маленькое облачко надутых ветром парусов сдержанно и величественно проплывает вдали. Но больше всего я люблю, когда его озаряют косые лучи солнца, вдруг прорвавшиеся из-за гонимых ветром туч, и вокруг на много миль нет и следа человека, оскорбляющего своим присутствием величие Природы. Я видел, как тонкие серые нити дождя под медленно плывущими облаками скрывали в дымке противоположный берег, а вокруг меня все было залито золотым светом, солнце искрилось на бурунах, проникая в зеленую толщу волн и освещая на дне островки фиолетовых водорослей. В такое утро, когда ветерок играет в волосах, воздух наполнен криками кружащихся чаек, а на губах капельки брызг, со свежими силами возвращаешься в душные комнаты больных к унылой, скучной и утомительной работе практикующего врача. В один из таких дней я и встретил моего старика. Я уже собирался уходить, когда он подошел к скамье. Я бы заметил его даже в толпе. Это был человек крупного сложения, с благородной осанкой, с аристократической головой и красиво очерченными губами. Он с трудом подымался по извилистой тропинке, тяжело опираясь на палку, как будто огромные плечи сделались непосильной ношей для его слабеющих ног. Когда он приблизился, я заметил синеватый оттенок его губ и носа, предостерегающий знак Природы, говорящий о натруженном сердце. - Трудный подъем, сэр. Как врач, я бы посоветовал вам отдохнуть, а потом идти дальше, - обратился я к нему. Он с достоинством, по-старомодному поклонился и опустился на скамейку. Я чувствовал, что он не хочет разговаривать, и тоже молчал, но не мог не наблюдать за ним краешком глаза. Это был удивительно как дошедший до нас представитель поколения первой половины этого века: в шляпе с низкой тульей и загнутыми краями, в черном атласном галстуке и с большим мясистым чисто выбритым лицом, покрытым сетью морщинок. Эти глаза, прежде чем потускнеть, смотрели из почтовых карет на землекопов, строивших полотно железной дороги, эти губы улыбались первым выпускам "Пиквика" и обсуждали их автора - многообещающего молодого человека. Это лицо было своего рода летописью прошедших семидесяти лет, где как общественные, так и личные невзгоды оставили свой след; каждая морщинка была свидетельством чего-то: вот эта на лбу, быть может, оставлена восстанием сипаев, эта - Крымской кампанией, а эти - мне почему-то хотелось думать - появились, когда умер Гордон. Пока я фантазировал таким нелепым образом, старый джентльмен с лакированной тростью как бы исчез из моего зрения, и передо мной воочию предстала жизнь нации за последние семьдесят лет. Но он вскоре возвратил меня на землю. Отдышавшись, он достал из кармана письмо, надел очки в роговой оправе и очень внимательно прочитал его. Не имея ни малейшего намерения подсматривать, я все же заметил, что письмо было написано женской рукой. Он прочитал его дважды и так и остался сидеть с опущенными уголками губ, глядя поверх залива невидящим взором. Я никогда не видел более одинокого и заброшенного старика. Все доброе, что было во мне, пробудилось при виде этого печального лица. Но я знал, что он не был расположен разговаривать, и поэтому и еще потому, что меня ждал мой завтрак и мои пациенты, я отправился домой, оставив его сидеть на скамейке. Я ни разу и не вспомнил о нем до следующего утра, когда в то же самое время он появился на мысу и сел рядом со мной на скамейку, которую я уже привык считать своей. Он опять поклонился перед тем как сесть, но, как и вчера, не был склонен поддерживать беседу. Он изменился за последние сутки, и изменился к худшему. Лицо его как-то отяжелело, морщин стало больше, он с трудом дышал, и зловещий синеватый оттенок стал заметнее. Отросшая за день щетина портила правильную линию его щек и подбородка, и он уже не держал свою большую прекрасную голову с той величавостью, которая так поразила меня в первый раз. В руках у него было письмо, не знаю то же или другое, но опять написанное женским почерком. Он по-стариковски бормотал над ним, хмурил брови и поджимал губы, как капризный ребенок. Я оставил его со смутным желанием узнать, кто же он и как случилось, что один-единственный весенний день мог до такой степени изменить его. Он так заинтересовал меня, что на следующее утро я с нетерпением ждал его появления. Я опять увидел его в тот же час: он медленно поднимался, сгорбившись, с низко опущенной головой. Когда он подошел, я был поражен переменой, происшедшей в нем. - Боюсь, что наш воздух не очень вам полезен, сэр, - осмелился я заметить. Но ему, по-видимому, было трудно разговаривать. Он попытался что-то ответить мне, но это вылилось лишь в бормотание, и он замолк. Каким сломленным, жалким и старым показался он мне, по крайней мере лет на десять старше, чем в тот раз, когда я впервые увидел его! Мне было больно смотреть, как этот старик - великолепный образец человеческой породы — таял у меня на глазах. Трясущимися пальцами он разворачивал свое неизменное письмо. Кто была эта женщина, чьи слова так действовали на него? Может быть, дочь или внучка, ставшая единственной отрадой его существования и заменившая ему... Я улыбнулся, обнаружив, как быстро я сочинил целую историю небритого старика и его писем и даже успел взгрустнуть над ней. И тем не менее он опять весь день не выходил у меня из головы, и передо мной то и дело возникали его трясущиеся, узловатые, с синими прожилками руки, разворачивающие письмо. Я не надеялся больше увидеть его. Еще один такой день, думал я, и ему придется слечь в постель или по крайней мере остаться дома. Каково же было мое удивление, когда на следующее утро я опять увидел его на скамье. Но, подойдя ближе, я стал вдруг сомневаться, он ли это. Та же шляпа с загнутыми полями, та же лакированная трость и те же роговые очки, но куда делась сутулость и заросшее серой щетиной несчастное лицо? Щеки его были чисто выбриты, губы твердо сжаты, глаза блестели, и его голова, величественно, словно орел на скале, покоилась на могучих плечах. Прямо, с выправкой гренадера сидел он на скамье и, не зная, на что направить бьющую через край энергию, отбрасывал тростью камешки. В петлице его черного, хорошо вычищенного сюртука красовался золотистый цветок, а из кармана изящно выглядывал краешек красного шелкового платка. Его можно было принять за старшего сына того старика, который сидел здесь прошлое утро. - Доброе утро, сэр, доброе утро! - прокричал старик весело, размахивая тростью в знак приветствия. - Доброе утро, - ответил я. - Какое чудесное сегодня море! - Да, сэр, но вы бы видели его перед восходом! - Вы пришли сюда так рано? - Едва стало видно тропинку, я был уже здесь. - Вы очень рано встаете. - Не всегда, сэр, не всегда. - Он хитро посмотрел на меня, как будто стараясь угадать, достоин ли я его доверия. - Дело в том, сэр, что сегодня возвращается моя жена. Вероятно, на моем лице было написано, что я не совсем понимаю всей важности сказанного, но в то же время, уловив сочувствие в моих глазах, он пододвинулся ко мне ближе и заговорил тихим голосом, как будто то, что он хотел сообщить мне по секрету, было настолько важным, что даже чайками нельзя было это доверить. - Вы женаты, сэр? - Нет. - О, тогда вы вряд ли поймете! Мы женаты уже пятьдесят лет и никогда раньше не расставались, никогда. - Надолго уезжала ваша жена? - спросил я. - Да, сэр. На четыре дня. Видите ли, ей надо было поехать в Шотландию, по делам. Я хотел ехать с ней, но врачи мне запретили. Я бы, конечно, не стал их слушать, если бы не жена. Теперь, слава богу, все кончено, сегодня она приезжает и каждую минуту может быть здесь. - Здесь? - Да, сэр. Этот мыс и эта скамейка - наши старые друзья вот уже тридцать лет. Видите ли, люди, с которыми мы живем, нас не понимают, и среди них мы не чувствуем себя вдвоем. Поэтому мы встречаемся здесь. Я точно не знаю, каким поездом она приезжает, но даже если бы она приехала самым ранним, она бы уже застала меня здесь. - В таком случае... - сказал я, поднимаясь. - Нет, нет, сэр, не уходите. Прошу вас, останьтесь, если только я не наскучил вам своими разговорами. - Напротив, мне очень интересно, - сказал я. - Я столько пережил за эти четыре дня! Какой это был кошмар! Вам, наверное, покажется странным, что старый человек может так любить? - Это прекрасно. - Дело не во мне, сэр! Любой на моем месте чувствовал бы то же, если бы ему посчастливилось иметь такую жену. Наверное, глядя на меня и после моих рассказов о нашей долгой совместной жизни, вы думаете, что она тоже старуха? Эта мысль показалась ему такой забавной, что он от души рассмеялся. - Знаете, такие, как она, всегда молоды сердцем, поэтому они и не стареют. По-моему, она ничуть не изменилась с тех пор, как впервые взяла мою руку в свои; это было в сорок пятом году. Сейчас она, может быть, полновата, но это даже хорошо, потому что девушкой она была слишком уж тонка. Я не принадлежал к ее кругу: я служил клерком в конторе ее отца. О, это была романтическая история! Я завоевал ее. И никогда не перестану радоваться своему счастью. Подумать только, что такая прелестная, такая необыкновенная девушка согласилась пройти об руку со мной жизнь и что я мог... Вдруг он замолчал. Я удивленно взглянул на него. Он весь дрожал, всем своим большим телом, руки вцепились в скамейку, а ноги беспомощно скользили по гравию. Я понял: он пытался встать, но не мог, потому что был слишком взволнован. Я уже было протянул ему руку, но другое, более высокое соображение вежливости сдержало меня, я отвернулся и стал смотреть на море. Через минуту он был уже на ногах и торопливо спускался вниз по тропинке. Навстречу ему шла женщина. Она была уже совсем близко, самое большее в тридцати ярдах. Не знаю, была ли она когда-нибудь такой, какой он мне описал ее, или это был только идеал, который создало его воображение. Я увидел женщину и в самом деле высокую, но толстую и бесформенную, ее загорелое лицо было покрыто здоровым румянцем, юбка комично обтягивала ее, корсет был тесен и неуклюж, а зеленая лента на шляпе так просто раздражала. И это было то прелестное, вечно юное создание! У меня сжалось сердце, когда я подумал, как мало такая женщина может оценить его и что она, быть может, даже недостойна такой любви. Уверенной походкой поднималась она по тропинке, в то время как он ковылял ей навстречу. Стараясь быть незамеченным, я украдкой наблюдал за ними. Я видел, как они подошли друг к другу, как он протянул к ней руки, но она, не желая, видимо, чтобы хоть кто-то был свидетелем их ласки, взяла одну его руку и пожала. Я видел ее лицо в эти минуты и успокоился за моего старика. Дай бог, чтобы в старости, когда руки мои будут трястись, а спина согнется, на меня так же смотрели глаза женщины. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 17 февраля - День спонтанного проявления доброты Добрый юноша Вьетнамская сказка В давние времена жил на свете юноша, и славился он добротой, да не только к людям, но и к зверям, большим и малым. Потому и прозвали его Добряком. Всё наследство, что оставили ему родители, он раздал бедным, а сам перебивался кое-как. Но о родителях своих Добряк всегда помнил и каждый год в их память угощение устраивал. Вот как раз накануне такого дня приготовил юноша рис и курицу. Вдруг видит, подобралась к рису мышь, полакомиться собирается. Поймал юноша мышку и говорит ей: - Мышка, мышка! Ты зачем у бедняка рис воруешь? Чем я завтра гостей угощу? Беги-ка в другой дом, ищи себе добычу в другом месте! И отпустил мышку, побежала она, обрадовалась. А ночью, слышит юноша, в дом лиса лезет - запах курятины учуяла. - Лиса, лиса! - схватил её Добряк.- Я человек бедный. Зачем у меня воруешь? Оставь курицу! Чем я буду завтра гостей угощать? Укоризненно покачал головой юноша да и отпустил лисицу. Почуяла лисица волю, обрадовалась, в тёмный лес побежала. На следующий день собрался Добряк перед гостями блюдо с курицей и рисом ставить, а над блюдом муха кружит, тоже хочет полакомиться. Изловчился юноша, поймал муху - жужжит она у него в кулаке, вертится, думает, конец ей пришёл. - Муха, муха! - говорит ей Добряк.- Я человек бедный. Зачем у меня воруешь? Вот я гостей угощу, а что останется, тебе отдам, прилетай после. И отпустил муху. Полетела она, обрадовалась, весело зажужжала. С тех пор далеко разнеслась молва о доброте юноши. Узнали о ней и в королевском дворце. А король как раз собирался выдать замуж принцессу и подыскивал ей хорошего жениха, умного и доброго. Услышал король про Добряка, отправил за ним вельможу, и вскоре юноша предстал перед королём. Оглядел тот Добряка, показался юноша королю неотёсанной деревенщиной: не оказалось в Добряке ни придворной льстивости, ни придворного блеска. И решил тогда король вежливо отказать Добряку. - Я бы с большой радостью отдал дочь за тебя, - сказал государь с притворным радушием. - Только ведь, чтобы жениться на принцессе, нужно тебе принести во дворец свадебный подарок - большое золотое блюдо. Услышал это Добряк, приуныл, понял, что не быть ему королевским зятем. Бредёт он по лесу, не знает, что делать. Вдруг лисица, которую юноша когда-то на волю отпустил, дорогу ему перебегает. Остановилась лисица и спрашивает: - Что ты так печален, юноша? Рассказал Добряк, отчего ему невесело. Выслушала лисица всё от начала до конца и говорит: - Это не беда. Я тебе помогу. Знаю я место, где золота полным-полно. Ступай следом за мной! Пошёл юноша вслед за лисой, и привела она его в глубокую пещеру. В углу пещеры стояли три огромных кувшина. Открыл Добряк крышки, заглянул в кувшины, полным-полны кувшины золота, серебра да драгоценных камней. Поблагодарил юноша лисицу и перевёз кувшины к себе в дом. На следующий день нанял он слугу и послал его во дворец со свадебным подарком - огромным золотым блюдом. Никак король такого подарка от бедняка не ждал, пришлось ему для вида согласиться выдать принцессу за бедного юношу. И всё-таки король не терял надежды избавиться от нежеланного жениха, придумал он ещё одну хитрость. В день свадьбы привёл король жениха в свои покои и говорит: - Видишь эти десять блюд? В одном из них - красная нить. Найди это блюдо, найди красную нить и садись перед ним. Сумеешь найти - женишься на принцессе. А нет - будешь на её свадьбе гостем и отправишься восвояси ни с чем. Взглянул Добряк на десять блюд и растерялся: все десять одинаковые. Не знает, бедняга, к какому блюду садиться. Стоит, призадумался. Тут вдруг слышит юноша, над ухом муха жужжит: - З-з-з! Ты когда-то отпустил меня на волю. З-з-з! За это я отблагодарю тебя. З-з-з! Смотри да приглядывайся: к какому из десяти блюд я полечу, к тому и ты садись. Услышал это Добряк, успокоился. А потом уверенно шагнул к блюду, на которое муха опустилась. Удивился государь, что бедняк так ловко нужное блюдо указал. Решил он ещё раз испытать жениха и говорит: - А теперь найди во дворце покои невесты! Смотрит юноша, перед ним множество дверей - все одна на другую похожи. У каждой двери - светильник, цветами украшенный. Опять растерялся юноша, не знает, как ему быть. Вдруг подбегает та самая мышка, которую он когда-то на волю отпустил, и тихонько пищит: - Помнишь, как ты меня отпустил? За это я тебе помогу. Ступай за мной! В какую дверь я юркну, туда и заходи. Это и есть покои принцессы. Побежала мышка, побежала, а потом в одну из дверей - юрк! В ту дверь и добрый юноша вошёл. Смотрит, вот они - покои принцессы. Да и сама принцесса там сидит, приветливо жениху улыбается. Пришлось королю уступить. Стал Добряк королевским зятем, а потом и королём. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 23 февраля – православный Валентинов день, а также в России День защитника отечества, по старому – День советской армии и военно-морского флота Солдат и царская дочь Русская народная сказка Был у отца сын. Взрос до совершенных лет. Взяли его на военную службу. Жили дома в довольствии. Со службы стал письма писать. Письма писал обманные: „Дорогие мои родители, пришлите мне денег. Меня обокрали. Как вы сами думаете: военные веща“. Родители думали, что и правда. Не менее ста рублей послали. Получил сын ихные деньги, зашел в свое начальство, выпросил отпуск. Сам начал пить-гулять. Пропил эти деньги. „Ну, что же мне больше делать? Буду родным письмо писать“. Прислал родным письмо: „Дорогие мои, в несчастье в большое попал. Если хотите меня увидеть, чтобы я побыл домой — не менее трехсот пришлите“. Родные действительно жалели. Они еще больше трех послали сот. Пошел к ротному командиру. „Вот теперь попьем“. Ротный командир и спрашивает: „Было б на что, Володь, попить“. — „Родные мои прислали триста пятьдесят. Так вот, ротный командир. Вы меня ослобоните, а что хотите, то возьмите“. — „Да желанно полсотни разломим пополам“. Володя вынял двадцать пять рублей, подал ротному командиру. „Ну, теперь, Володя, иди“. Все-таки ротный командир спросил у Володи. Володя ответил командиру: „В вугловом ресторанце буду находиться“. Командир ответил. „Хорошо, Володя. В случае я приду в особенную комнату, тогда, Володь, не забудь“. Володя ответил командиру: „Долго не поздайте. Ну, затем до свидания, ротный командир“. Пошел Володя. Заходит к своим товарищам. „Дорогие мои товарищи. Вы знаете про меня, что я один не могу. Ну, только, братцы, не поздайте“. Володя затем пошел. Приходя в этот ресторант и говорит буфетчику. „Вот, дорогой мой товарищ, дайте мне на неделю квартеру“. Буфетчик эму дал. Володя вынимает сто рублей. „Ты, товарищ буфетчик, моих денег не жалей. Что будя я требать, то вы мне давайте“. Взялся Володя пить. Вдруг приходя ротный командир. „Товарищ буфетчик, дайте-ка мне вот такую квартерку“. Буфетчик ответил командиру, что эта квартера занята. Командир на ответ отдает буфетчику: „А кем она занята?“ — „Рядовым солдатиком, Владимир Иваныч“. — „Ага! Мне только это нужно“, — командир отвечал. Командир ответил буфетчику, что ежели вы опаску имеете, доложьте Володе, что пришотчи командир. Сразу этот доложил. Выходит Володя. Поздоровались до проста. Взял Володя командира, повел в эту комнату. Начали они пить. Командир захмелел и говорит командир на Володю. „Да, благодарю, Володя, и оставайся ты с богом“. Остался Володя. Пьет день и пьет два и прогулял всю неделю. Хорошо. Сотня вся. Приходит товарищ буфетчик к этому Володе. „Товарищ Владимир, ваши деньги все“. — „Хорошо, товарищ буфетчик, я знаю, что все. Так вот, товарищ буфетчик, получите от меня двести рублей еще“. — „Товарищ Володя, не был бы мне чего за вас“. Володя вынул записку, подает буфетчику: „Я отстранен“. Прочитал буфетчик. „Хорошо, товарищ Володя. Мне ваша копейка не надо. Ну, я хотел бы, чтобы вы, чтобы даже вы записывали“. Товарищ Володя ответил: „Не надо мне никакие ваши записи. Только, товарищ буфетчик, кто спросит про меня, вы пустите ко мне“. — „Пожаласта, слушаю“. Буфетчик пошел на свое дело. Володя начал пить. Пропил он всю неделю, идет домой. И шел в двенадцать часов ночи, говорит между собой: „Да уж и попил. Ну, еще думаю попить. Ну, родных беспокоить я не буду. Вот у нашего-то государя есть дочь. Ну, никто не знает, куды делась. Ну, ежели б доказали государю именно меня, прогорькую пьяницу, — ну, я мог бы достать“. В то время шел воинский начальник, даже на дозырью этого Володи. Пришел Володя вдрызг пьяный в свою казарму, лег спать. Наутро приходит воинский начальник в эту сущую казарму. Вскочили солдатики — встали во фрунт, сделали под козырек. Воинский начальник ответил: „Вольно, дети. Я хочу вас просить: вот сегодняшнюю ночь, так часов в двенадцать, шел здесь пьяный. Вот скажите, пожалуйста“. Володя поднял руку, сделал под козырек: „Так точно, я и шел, воинский начальник“. — „Вот, Володя, тебе прощается, что ты шел пьяный. А скажи, что ты говорил“. — „Да, воинский начальник. Есть воля ваша, что хотите, то делайте надо мной“. — „Нет, Володя. Не буду я делать над тобой ничего. Только скажи, что говорил“. — „Вот, господин воинский начальник, я говорил про царевну. Рад бы наш государь повидать бы свою дочь, но не найдется такого человека, чтоб ее достать. Ну, я думаю своей башкой и, думается, достану“. Воинский начальник поблагодарил, вынимает воинский начальник на бутылку. — „Вот сходи, Володя, спохмелись“. Володя за это поблагодарил. Побег в ресторант. А воинский начальник пошел к государю. Приходит воинский начальник к государю, завели разговоры и говорит воинский начальник: „Знаете, ваше царское величество, ежли выйдет это дело, то вы, царское величество, много вы возрадуетесь. У меня есть рядовой солдатик, берется достать вашу дочь“. Государь много возрадовался. „Вот, товарищ воинский начальник, если дело это произойдет, и дело будет в положении, за этот слух большую я дам тебе награду“. Государь и говорит: „Как бы мне повидать этого солдатика.“ — „Сею минуту я предоставлю. Ваше царское величество, я с вами прощаться не буду“. Тогда этот воинский начальник предоставил этого Володю. Идет Володя лично к царю. Его прислужные не хотели допустить. Государь осмотрел. „Пропустить“. Подошел Володя именно к государю: „Здравствуйте, ваше царское величество“. — „Здравствуйте, рядовой солдатик“. Спрашивал государь имя-отечество. — „Имя-отечество — Владимир Иваныч“. — „Так вот, Володя. Вот как мне говорил воинский начальник, что вы собственно говорили, что вы можете достать мою дочь“. — „Так точно, ваше величество. Могу достать“. — „Что тебе нужно, Володя?“ — спросил государь. — „Больше мне не нужно ничего — всего пять тысяч денег и позвольте на две недели сроку — поломать свою башку“. Государь подал пять тысяч этому Володе. „И вот ты, Володя, в такой день явись ко мне“. Отвечал государь: „Засим можете идти“. Поблагодарил Володя. „Счастливо Вам оставаться“. В это время пошел Володя. Не заходивши в казарму, пошел в расторан на чай пить-гулять. Прогулял две недели. Ну, свой срок хорошо помнил. Наутро встал после двух недель и даже спохмелиться не на что. Подошел к буфету и скоблит свою голову. Буфетчик заметил. „Наверно пропил деньги все“. Налил буфетчик стакан водки, подает Володе. Выпил Володя стакан водки. „Вот, товарищ буфетчик, извиняюсь я тебе. Деньги я все пропил, а за стакан платить нечем“. — „Вот, товарищ Володя, мне не надо с тебя ничего“. — „Вот, товарищ буфетчик, теперь долго я у вас не буду. До свиданья, товарищ буфетчик“. Не заходивши в казарму, пошел лично к государю. Когда его придворные слыхали с царем евойные разговоры, его уже не удерживали. Приходит Володя прямо в дом, даже государь обрадовался. Государь подумал на первых словах: „Подал я Володе пять тысяч, наверно, они пропали“. После этого, когда явился Володя, бросил государь эту думу. „Ну, да что ж, Володя, что вы обдумали?“ — „А вот, ваше царское величество, я только обдумал то: дайте двенадцать матросов, и двенадцать гусаров, и двенадцать рядовых солдат; и дайте который покрепче мне корабель и на пять лет провизии“. — „А деньги, Володя, есть?“ — спросил государь в Володи. — „Ваше царское величество, ваши деньги все пропиты“. Улыбнулся государь на Володю; подумал государь, уже брошу эту думу. „Так вот, Володя, сколько тебе денег надо?“ — „Ваше царское величество, будем деньги класть против провизии. Только лишь хватило б на пять лет“. Тогда государь ответил: „К завтрему все буде готово“. — „Царское величество, что скорее, то мне веселее“. — „То, пожалуйста, Володя, в двенадцать часов дня, приходите“. Володя как раз в двенадцать часов явился. Этот государь за убранный стол сажал и Володю прощал. „Вот, дорогой мой Володя, дам я тебе чин штапа-капитана и эту всю обряду“. Государь на прислугу: „Доложите моим, что собрались ли они. Ежели собрались, чтобы сею минуту были тут“. Явились матросы и гусары, и рядовые солдаты. Государь встал перед им: „Вот, братцы, я вам что скажу. Вы знали, что он рядовой?“. Все выкрикнули: „Да, рядовой.“ — „А теперь видите, в чем он сидит?“ — Видим, ваше царское величество. Ответим то, что штап-капитан“. — „Вот, братцы, я вам теперь скажу. Должны вы его слушать“. Володя ответил то: „Благодарю, ваше царское величество, за ваше угощение. Затем до свидания. Мне прохлаждаться некогда“. Государь вынул суму денег и подает Володе. „Засим до свидания, ваше царское величество“. Государь встал, дал правую руку. „До свиданья, штап-капитан, помоги тебе бог в твоим хорошим успехе“. В это время отправился Володя со всеми своими товарищами. Корабль был уже снаряжен. Сели они в этот корабль и пустилися в путь. Ну, скоро говорится. Ну, долго продолжится. Может быть, они проехали полный месяц. Приехали, куда он думал. Остановили корабль, вышли с корабля и пустились в путь. Дело было время перед вечером. Немного прошли, обночели. Пришли в дремучий лес. Жилья не видать нигде. Говорил штап-капитан: „А, товарищи, пройдем“. Немного они прошли, видят по правой руке огонь, пришли на этот огонь. Горит на столе огонь. Золотой подсвечник и пальмовая свечка. „Ну вот, мои товарищи. Что бог не даст, а пойдем ночевать“. Взошли и закусили. Ложатся на спокой. Наутро встал штап-капитан. Товарищи слушали штапа-капитана. Сели закусывать. Наливает по стакану водки. Они поблагодарили штапа-капитана. Штап-капитан говорит рядовому солдатику: „Вот, дорогой, останься провизию варить. Только буду я тебя просить, что услышишь, что увидишь, то мне скажи. А вы, товарищи, пойдемте со мной“. Штап-капитан проходил день. Никаких делов хороших не нашел. А у рядового солдатика появилась новость: приготовивши провизию, лег на диван отдохнуть. Вдруг раздвоился потолок и влетела сова в этот дом, вдарилась об пол, сделалась молодцом. „А здравствуйте, солдатик рядовой“. — „Здравствуйте, мал-человек“. — „Дай-ка покушать мне, солдатик“. — „Это не счет, что не дать, только я боюсь штапа-капитана“. — „Ну, не разговаривай, давай. Мне дешев твой штап-капитан“. Солдатика мал-человек отстегал нагайкой, вынул с печи на стол и ел, покамест ему полно. Ударился опять об пол и полетел опять совой. Приходит во время вечера штап-капитан, а рядовой солдатик даже встать не может. Подходит штап-капитан к рядовому солдатику. — „Никак ты, дорогой, заболел?“ — „Вот так я болен, что и встать не могу“. — „Так, дорогой мой, как бы покушать“. — „Вот я и больной из-за кушанья. Раздвоился потолок, прилетела в нашу квартеру сова и ударилась об пол, сделалась молодцом. Стал он у меня просить кушать, а я не давал“. Штап-капитан ответил: „Жалко, дорогой мой, тебя. Ну, да ладно, я дам тебе стакан водки“. Дал штап-капитан стакан водки. Солдатик стал против штапа-капитана повеселей. „Больше я, штап-капитан, заболел, что боялся вас“. — „Ты глупый, — пущай бы он все сожрал, а благодарю за то, что мне сказал. Ну, так давайте-тко ужинать да на спокой ложиться“. Вот поужинали, легли спать. Ну, штап-капитан не столько спал, сколько по комнатам ходил. Провели они эту ночь, сели закусили. Штап-капитан и говорит им всем: „Вот, братцы, идите вы теперь с богом. Что услышите, что увидите, скажите мне. А я останусь провизию варить“. Сварил он провизию и лег тоже на диван отдохнуть. И думает штап-капитан: „Какое-то диво было в этом дому, ели не обманул меня рядовой солдатик“. Только эту думу передумал — вдруг раздвоился потолок. Влетает сова и вдарилась об пол — изделался молодцом. „А здравствуйте, штап-капитан.“ — „Здравствуйте, молодой человек“. — „Нельзя ли, штап-капитан, пообедать?“ — „Да, обед-то не что, а кабы перед обедом выпить, мал-человек“. — „За этим остановки не будет, штап-капитан. Вот сходи-тко в кладовую, принеси пяти ведер бочку“. Смекнул штап-капитан, что-то явилося, не было погреба, а стал погреб. Пошел штап-капитан за пятиведерной бочкой. Попробовал он поднять, но не в силу. „Да дай-ка я дурака сваляю“. Начал выкачивать десятиведерную. Не дождался мал-человек, побег сам. — „Что ты делаешь, штап-капитан?“ — „Да, что, мал-человек, нам все равно будет мало пять ведер, и я что-то выпить люблю“. Мал-человек схватил пятиведерный бочонок и понес. А штап-капитан говорит: „Я, говорит, только этого и хотел“. Мал-человек вынул кран, ввернул в эту бочку. Приносит жестяную кружку, в которую влазит полная четверть. Наливает эту кружку, потчует штап-капитана. Штап-капитан ответил малому человеку: „Нет, пожалста, ну-те сами“. Мал-человек выпил эту кружку, налил штап-капитану и подает. А сам взялся за закуску. Ну, штап-капитан обманул, вылил на себя эту кружку водки. Наливает штап-капитан вторую кружку и подает малому человеку. „Да, говорит, мал-человек, бросьте эти закуски, выпьем“. Мал-человек взял эту кружку, выпил. „Вот, мал-человек, я теперь налью себе“. Штап-капитан только под кран подставил, ну, может быть, там плеснул сколько. Наливает третью и дает малому человеку. „Да, мал-человек, полно тебе закусывать, выпьем“. Мал-человек выпил и эту кружку и как есть охмелел. Штап-капитан наливает четвертую. — „Ну-тка, выпьем, молодой человек“. — „А вы-то, штап-капитан“ — „Да что вы, не видали, как я пил?“ Штап-капитан налил пятую, подносит малому человеку. Он уже уснул — слова не отвечает. Подложил руки под морду и облокотился на стол, заснул. Штап-капитан взглянул в окно — кладовая куда-то делась. „Эй, товарищ, ты какой-то замечательный. Дай-ка мне проверить твои карманы“. Всунул правую руку в правый карман, вынимает меч. „Дай-ка попробовать в левом“. Вынимает шесть ключей. „Э, даже прости бог меня“, — замахнул руку и снял ему голову, самому этому малому человеку. После того отрубил руки и ноги. Нашел мех, вложил все в мех. После того пошел вокруг дома. Обошел кругом дома и думает: „Какой-то дом этот замечательный. Не может быть, что в этому доме одна рама и одни двери. Дай-ка я похожу, да посмотрю хорош“. Взошел, около печи видит, как будто какую дверь отворивши. В эту щелину заложил свои персты и дай-ка натянуться. Когда он натянулся, и отворил и нашел двери. В этой двери личинный замок. „Ну, да у меня-то теперь ключи есть, дай-ка я испытаю; может быть, и подойдет“. Два не подошло, третьим отворил. Когда он взошел в эту комнату, видит впереди еще двери — просто так незакрытые. Прошел вторую комнату, видит еще третьи двери. Он взял тоже их отворил — те были заперты. Когда отворил он двери, сидит царевна — вся в золоте. Эта царевна обрадовалась и даже испугалась. „Здравствуйте, царева дочь“. — „Здравствуйте, штап-капитан. Дорогой штап-капитан, уходите вы поскорее, пожалуйста, отсюдова. Прилетит через два часа мой мал-человек — он зарубит тебя“. — „Эй, царева дочь, будьте настолько любезны — не пугайтесь. Молодой человек уж ваш зарублен у меня“. Ну, царевна не верит, что он зарублен. — „Вот, дорогая моя царевна, я вам принесу голову — так вы и узнаете“. — „Вот, штап-капитан, так-то, пожалуйста, принесите“. Штап-капитан принес голову. „Ели вы не верите, царева дочь, вы оглядите все и туловище“. — „Верю, штап-капитан, я, что вижу обличье его. Только вот что, штап-капитан, я хотела б тебе сказать. Подам я тебе свой именной перстень, чтобы ты был мой муж, а я твоя жена“. Поблагодарил штап-капитан цареву дочь. Ставя царева дочь стул и сажает штапа-капитана. „И вот, штап-капитан, теперь мы с тобой поговорим“. Дело это было перед вечером — явились матросы, гусары и рядовые солдаты, подняли они крик: „Погиб наш штап-капитан“, углядевши кровь. Раздался звук по этому дому, даже испугалася царевна. Бросился штап-капитан к своим товарищам. — „Ой, братцы, не бойтеся, я жив. Вот садитесь-ко, братцы, покушайте, потом будем дело вести. Вот, братцы, не знаю, сколько тут осталось водки — и вы выпейте, только пьяны не напивайтесь“. Они выпили, закусили, все благочестиво. Штап-капитан является опять к ним. „Ну, что, братцы, покушали?“ — „Благодарим вас, штап-капитан, много довольны“. — „Так вот, братцы, я пойду вперед, а вы идите за мной сзади“. Когда вошли они в эту последнюю комнату, даже все перепугались. „Ой, братцы, не пугайтесь. Это нашего государя дочь. Вот, братцы, будем за дело браться, берите самые дорогие все вещи, драгоценные“. А штапа-капитана перстень был на окне. Обобрали они драгоценные вещи, пустились идти на корабель. Вот они сели, пустилися в путь. Одумался штап-капитан, что я забыл перстень и теперь, братцы, обратно вернитесь. Приехали на это место, вылезает штап-капитан, ни матроса, ни гусара, ни рядового солдата не послал. Пошел сам. Пришел, взял перстень, вышел с дома, корабель уже пошел. Со всех сил он бежал к этому морю. Прибежал на крутой берег, громко кричал на них: „Эй, братцы, что вы делаете? Вернитесь!“ Не тут-то было, корабель все пошел. Сел на берег моря, слезно заплакал. „Наверно не судьба моя, что эту царевну взять за себя“. А один матрос сильно был красивый и влюбился в эту царевну. Престрашный был богач. Объяснил гусарам и матросам, рядовым солдатам: „Что хотите с меня возьмите, только за меня говорите, что, туды ехалши, штап-капитан умер и мы бросили в море“. — „Поддержим твое слово“. Тогда они едут. Штап-капитан посидел около моря, пустился в путь. Идет сутки, идет другие. Захотелось ему покушать, но кушать нечего было. Проходил он шестеро сутки, на седьмые обринулся. Господи, незнаемая смерть моя. Только он обдумал своим мыслям, отколь ни взялся молодой человек. Стал спрашивать молодой человек: кто и откудова. Мог только махнуть рукой штап-капитан, а слова сказать не ответил. Взял молодой человек штапа-капитана на плечи, принес к себе на квартеру к своей матери. Мать убрала койку, положила его на койку. Седьмую часть рюмки наливает виноградной водки и дает кроху хлеба. Через два часа наливает больше. Молодой человек провождал со штап-капитаном полную неделю. На вторую неделю штап-капитан поправился. Потом молодой человек пошел к дяде. „Вот, дорогой мой дяденька, я нашел русского штап-капитана. Даже при голодной смерти, и я мог его возвратить, как следа быть“. — „За это, молодой человек мой, скажите штап-капитану, чтобы он пришел ко мне“. Молодой человек и говорит: „Штап-капитан, велел дядюшка придти“. Пришел он к дяде. „Здравствуйте, дорогой мой“. — „Здравствуйте, штап-капитан“. — „Ну, как же ты попал сюда?“ — „Дорогой мой хозяин, я уже теперь сам не знаю, как“. — „Ну, да ладно, штап-капитан. Ты чего же домой хотишь, ай у меня пожить?“ — „Да, господин хозяин, желал бы я у вас пожить, что денег ни копейки“. — „Так вот, штап-капитан, я обложу в год сто рублей тебе. Только как ни живи, а в старую баню не ходи“. Живет штап-капитан. Ходил повсюду и думает, в такие хорошие каменные кладовые хожу, а в старую баню да не сходи. Припал в штапа-капитана интерес сходить. Пришел в эту баню, отворил он двери — вдарила полковая музыка — он испугался, убежал. Пришел молодой человек, его оттуда вывел и запер эти двери. Призывает хозяин штапа-капитана. „Да, штап-капитан, а все-таки охота была тебе сходить. Ну, даже ладно, штап-капитан, прощается тебе. Ну, да что же ты думаешь. Домой, али опять у меня пожить“. — „Ну, ладно, господин хозяин, желал бы я пожить“. — „Так вот, штап-капитан, во второй вопрос тебе: где ни ходи, где ни гляди, но в старый сарай не ходи“. Штап-капитан живет, а все думает — и думает то: смерть ли могила, но пойду. Отворил этого сарая двери — поднялася война, пальба, пуще того испугался. Молодой человек подбег, затворил эти двери — все успокоилось. Призывает хозяин штапа-капитана: „Эй, штап-капитан, как я тебе говорил, что не ходи, а ты все-таки сходил“. — „Есть воля ваша, что хотите, то и делайте со мной“. — „Прощаю я тебе все, штап-капитан, что ты сознательно сознаешься. Вот, штап-капитан, я теперь узнал, как ты попал сюда и зачем. Зарубил моего племянника и отобрал цареву дочь. Вот тебе за то и прощается, штап-капитан, что мой племянник большие проделки делал надо мной. Так вот что, штап-капитан, я хорошо знаю, что судьба скучает по тебе. Так и ладно, штап-капитан, я тебя уволю домой“. — “Дорогой мой хозяин, и с чем же я пойду домой?“ — „Я тебе, штап-капитан, дам на дорогу“. Поблагодарил штап-капитан своего хозяина. Призывает этот хозяин своего малого человека: „Ну-тко, Ванюша, сходи-тко, приведи сивого коня“. Ведет Ванюшка сивого коня, и говорит штап-капитан: „Зря он его ведет: худой и дурной и короткохвостой“. — „Ну, вот, штап-капитан, вот тебе лошадка“. — „Дорогой мой хозяин, сведите его обратно. Я дальше пешком войду“. — „Бери, штап-капитан, когда я тебе даю“. Штап-капитан обдумал: „Не пойдёт, так я возьму задавлю да брошу“. — „Вот, штап-капитан, у тебя меч есть?“ — „Есть“. — „Так давай же ты мне свой, а на тебе мой“. Дает хозяин меч ржавный, а у него хороший. Не хочет отдать. — „Э, даже бог с ним, пущай!“ Отдал. — „А кошелек есть, штап-капитан?“ — „Есть, господин хозяин“. — „Так вот подайте мне свой, а нате мой“. Думает штаб-капитан: „Жалко отдать, да уже ладно“. Подал. „Господин хозяин, кошелек старый“. — „Вот, штап-капитан, теперь я тебе скажу. На этом коне будешь реки перепрыгивать и озера. А мой меч, в случае будет нападение — махни крестом, а кошелек мой — приедешь ты куда, захошь покушать — только тряхни. Что пожелаете, то можете взять и кушать. Вот желаю с господом-богом отправляйтесь“. Поблагодарил штап-капитан и пустился в путь. Выехал с этого со здания на чисто поля, видит, впереди строевой лес. — „Ой, господи, дай испытать меч“. Махнул мечом, поднялся вихорь. Впереди его начала как храпать этот лес. Запрятал меч в карман. Успокоилось все тихо. Проехал эту сосновую рощу, выехал к реке. Откуда не взялась быстрая прыть у коня, подбег к берегу, перескочил реку... Приехал в свое государство, где он служил. Обмозговал своей башкой: „Сделаю обед на пять тысяч. Разошлю я повестки по всем, чтобы все являлись“. Тряхнул кошельком — все у него явилось. Понанял лакеев и прислуг. Начал выстраивать обед. Через два дни в третий день ехал государь с государыней в свою царскую магазину — купить дочери траурное платье к венцу. Подъезжает к угловому дому, видит прибита к углу афишка. На езды прочитал государь. „Ой, постой-ка кучер. Знаете, дорогая моя жена, но я такой истории не слыхивал. Какой-то московский купец устраивает обед на пять тысяч. Думаю, что у меня даже хватает, но и то не могу. Ну, дайте-тко я зайду“. Государь встал, пошел. Только приходя к парадному крыльцу — и лакеи и прислуги подходят к царю, берут его под руки: „Пожалуйста, ваше царское величество“. Принимает этот штап-капитан, с усердиям прося за стол. Ставят стул к столу, сажают на стул. „Ваше царское величество, нельзя ли государыню, пожалуйста, сюда“. Пошла образованная прислуга к государыне. Пришла поздоровалась и: „Будьте настолько любезны. Желали бы мы вам царевна взойти на пир-беседу“. Государыня скоро поторопилась и пошла. Поставили рядом стул к государю, посадили их рядом. Начали их угощать. А царевна не столько, как говорится, кушает, насколько улыбается на этого московского купца. Угостились, учестились, потом пошли. Когда прощалася царевна с московским купцом и с желания своего сосжала руку крепко. Когда они пришли, сели в карету, государь ответил кучеру: „Можете ехать“. Государыня отвечает государю: „А мы глупо сделали: учестились, угостились; будет в воскресенье у нас свадьба, а мы и не пригласили“. Государь кричит на кучера: „Стой“. Вышел из кареты государь, пошел к этому купцу. „Извиняюсь, дорогой мой, я вам. Мы учестились, угостились у вас, а вас не пригласили. В воскресенье у меня будет свадьба, и в двенадцать часов прошу покорно“. Поблагодарил московский купец государя. „Все может быть, ваше царское величество“. — „Нет, прошу я вам, пожалуйста, безо всякого!“ — отвечал государь купцу. Поблагодарил государь купца и пошел. Когда он сел в карету, ответил кучеру: „Давай!“ Когда поехал государь с государыней — государыня и говорит: „А что вы, как вы замечаете насчет этого купца?“ — „Нет, дорогая моя, я не заметил ничего“. — „А знаете, дорогой мой, нет какого испытка: срезаная голова и наставлена нашего штап-капитана“. Государь отвечает своей жены: „Слышал я деревенскую поговорку, что волос долог, а ум короток. Ще ехалши туда человек умер, и бросили в море. Неужели мертвый человек может придти“. Государыня замолчала — и слова никакого не сказала. Приходя это воскресенье. Московский купец обрядился, пошел на свадьбу лично к этому государю. Когда пришел, государь осмотрел, с большой радостью принял. „Вот, пожалуйста, дорогой мой, на наше собрание“. — „Ваше царское величество, отмените меня оттуда. В случае — хотя маленько образован — ну, не попасть бы в какой подсмех“. — „Пожалуйста, дорогой мой, я б желал бы чтоб с нами“. — „Нет, ваше царское величество, я лучше помогу буфетчику, как к этому я маленько привычен“. — „Дюже скорбно, дорогой мой, отвечал государь, — даже это слушать ваши слова“. — „Нет, уже будьте настолько любезны, увольте“. — „Ну, даже ладно, бог с тобой“. Началася у них пир-беседа. В честь этого было принято у матроса до трех разов наливать по стакану водки. Погуляли, потанцевали. Приходят к буфету. Берет стакан водки этот матрос. „Наберите, братцы, все и потом вскрикнем: ура! за умершую душу“. Кода выпили и пошли опять. Думает штап-капитан: „Эх, ты, мерзавец. Если бы даже не у царя. Пущай бы я пропал и тебе смерть и могила. Ну, маленько обожду“. Через два часа или через час выходят опять к этому буфету. Этот штап-капитан одел перстень на мизенец и начинает играть в скрипочку. Как ни играл, а мизенец к верху подымал. Подошли к буфету и осмотрела перстень свой эта царевна. В этот момент она ничего не сказала. Третий раз выходят опять к буфету. „Ну, братцы, берите все по стакану“, — ответил матрос. Матрос отвечает, что ура за умершую душу. Кода вскрикнули, а царева дочь: „Нет, за прибывшую душу“. Эта публика вся замялась. Царевна отвечает всем: „Братцы, крикнем за прибывшую душу“. Кода вскрикнули, матрос обвял. Перескочила она через буфет, охватила за шею и поцеловала в уста. Вдруг подошел государь к своей дочери. „Ой, дочь моя любима. Какую-то ты даешь измену?“ — „Дорогой мой папа, измены я никакой не делаю. Который муку принимал и кровь проливал, папа, и вашу дочку достал. Ну, что этот матрос большой изменщик. Дорогой мой папа, достаньте всех тех, которые со мной ехали“. Приостановилась эта вся гульба. Потребовал государь матросов, гусаров и рядовых солдат. Кода они собралися все: „Говорите, не врите. Если будете врать, дам я вам расстрел“. Один рядовой солдатик выискался с своим словам: „Вот, ваше царское величество. Этот матрос самый первый мерзавец. Он на флоте служил и помного добрых людей оскорбил. Ну, я боялся вам высказывать, что после он убьет меня. Что я теперь вам говорю, вижу, что погибель его. Он всем нам в корабли отвечал: что хотите, возьмите, а мое слово поддержите“. Государь немного стал допрос снимать, только спросил у этих прочих. Все ответили остальные, что справедливо правду говорит. Поблагодарил государь всех их, вынул двести рублей, благотворил их на чай. Поблагодарили государя и пошли. Этого матроса сразу взяли, посадили в темницу. Штап-капитан принес себе платье, одел на себя. Повели эту свадьбу, как и раньше вели. Догуляли до двенадцати часов. После ложились на спокой. „Вот, братцы мои, завтра пораньше будьте сюда“. Собралась вся публика в девять часов утра. Позапрягли лошадок и отправились к венцу. После венца повели опять пир и беседу. Эта беседа продолжалася двое сутки после венца. После двух суток в третий день призакрылося все. Штап-капитан остался с своей женой так, как жить, так и быть. Прожили они недели две, штапу-капитану поохотилося поехать в лес. Штап-капитан уехал в лес, в этот момент украли жену его. Приезжает штап-капитан домой, в дому вой и стон. Он и спрашивает: „Что такой, мамаша?“ — „Да вот, сынок, вашу жену увезли“. — „Да куда же?“ — „Да мы сами не знаем, куда и кто“. Прослезился штап-капитан. Пошел в конюшню, приходи к своему сивому коню короткохвостому. „Дорогой мой конь, получилось со мной большое несчастье. Увезли от жену“. — „Хорошо, дорогой мой хозяин. Потружусь и я для тебя, что ты воспитываешь меня хорошо. Садись-ка на меня, поедем“. Штап-капитан сел и поехал. Приезжает к дремучему лесу. „Ну-ка, хозяин, слезай-ка с меня“. Штап-капитан слез. Эта лошадь говорит человечьим голосом: „Вот, дорогой мой хозяин, я тебе все теперь расскажу. Я сделаюся буркой-кауркой, и ты меня поведешь продавать. Вот за этой рощей живет твоя жена. Твоя жена у волшебника, тоже самое у того, сродственника которого ты зарубил. Вот тогда ты и поведешь продавать — и жена залюбя очень меня, будет просить своему подложнику, как бы только купить лишь меня“. Ну, подложник все-таки смекнул дело. „Ну, ладно, жена, я потешу тебя“. Ну, подложник думал в своем уме. Он купил. Купил, отправил в конюшню и говорит своему конюху: „Раскладите сажень дров и сведите этого коня, сожгите. Ели в случае будет моя жена вас спрашивать: старший Василий кучер уехавши на этом коне в город“. Сожгли этого коня. Приходит штап-капитан. Взял этого пеплу в руку и схукнул на ветер. Обратился как был конь. „Вот, штап-капитан, ты не бойся. Вот теперь я сбделаюсь быком: шерсть будет темной масти, роги золотые — и веди меня опять продавать“. Теперь не только жена и залюби подложник. Подложник подумал, что этот бык не так как подложный, что именно конь сожженый, он не может уж быком превратиться. Говорил подложник: „Возьмите быка, сведите его во двор, и я принесу овса“. Принес подложник овса этому быку. Махнул он головой, хватил его в брюхо рогом. Рассердился подложник: „Сжечь его! чтобы он не был во дворе! Думал, что могуч я, а верно есть лучше меня“. Вывели этого быка, тоже сожгли. Этот штап-капитан и думает: „Господи, говорил конь, что приходи на такое место. Тоже я буду сожженый, тоже возьми таким образом пепелу и схукни с правой руки на воздух“. Штап-капитан проходил полный день, однако все-таки нашел это место. Взял в правую руку этого пепелу и схукнул на воздух. Обратился опять таким же конем. „Вот, штап-капитан. Вот иди-тко ты на такие росстани и дожидайся меня. А я оборочуся лебедем, подлечу на остатнее решение“. Поблагодарил штап-капитан свою животную. „Говорил мне господин хозяин, что будешь доволен моей животной. Да, это верно. Надо много раз благодарить“. Прилетел этот лебедь на пруд, чистый белый и стал вымываться. Выходит жена на третьем этаже. Был балкон подле пруда. Ну, много это царевна смекнула: „Не мой ли штап-капитан старается обо мне“. Ой, много была от бога довольна, как бы ему господь помог. Побегла она к полюбовнику. „Дорогой мой, посмотрите на пруд, плавает лебедь чистый белый, перышки у него даже лунам ходют. Сходите, может быть, поймаете; наверно, он подстреленный. Вблизь пруда шел народ, но он не поднялся, не полетел“. Пошел подложник ловить лебедя с ружьем: „Ежели в случае полетит, все равно то убью“. Подходит он к пруду совсем близ лебедя — он не летит. Дал на лебедя выстрел — лебедь и не встрепенулся. „Говорила моя жена, наверно, верно подстрелена“. Скинул он с себя платье. Отстегнул свой меч от себя и положил на это платье, полез доставать лебедя. Штапа-капитана жены какая-то происходила большая радость. „Когда я задумаю об своем штапе-капитане, буду провождать я с этим лебедем“. Эта царевна глядит на своего подложника, что ловит этого лебедя. Лебедь вперед, а подложник сзади за лебедем. Кода лебедь всплыл на половину пруда, допустил до себя не больше, как сажень печатный. Подложник рад был стараться, давай крепче нажимать. В это время лебедь — пырхнул, полетел. Подлетел к евоному платью, схватил евоный меч. Этот волшебник даже обомлел. „Да, не думал я в себе. Ну, я теперь погиб“. Выскочил с пруда, прибег сряду на конюшню: „Запрягите мне скорее лошадь. Все равно я пропал. Я теперь уеду, не увидите вы меня по гроб жизни. Я думал своей жены, как своей души: жена моя подвела, погиб я навсегда“. Отправился этот волшебник с своей местности. Прилетел этот лебедь к штапу-капитану. „Здравствуйте, штап-капитан, дорогой мой хозяин“. Скоро говорится, долго продолжится. „Вот, дорогой мой хозяин, а я как покушать хочу“. Штап-капитан как все равно знал: обед раньше приготовлял своей животной. Штап-капитан поклонился низко в ноги своему коню „У меня обед устроен, чего хотите“. — „Вот, штап-капитан, дорогой мой хозяин, долго провождать мы не будем, лишь бы чего перекусить маленько“. Покрошил ему печеного ржаного хлеба и поехал. Едет штап-капитан на коне к этому дому. Ну, жена плачет и скучает. „Господи, какая я несчастная. Первый раз достал меня штап-капитан, и он из-за меня муку принял. Тоже он остался несчастный, и я таким же образом. Ели б я что знала, может быть, я домой бы попала“. Сидела жена на балконе, вытиралася белым платком. Обернулася вправо и обозрила своим глазам. В этот случай едет штап-капитан. В этот раз хотела сброситься с третьего этажа. „Только в том я спаслась, что удержала прислуга меня“. Взошел мой штап-капитан в этот дом. „Здравствуйте, дорогая моя жена“. Охватила его за шею, стала целовать-миловать: „Прошу я своего штапа-капитана большое извинение“. — „Дорогая моя жена, не просите извинения у меня. Вы не то, что с своей дури пустилися в блуд, а навязался несчастный человек. Он уже не первую тебя мог соблазнить. Он уж тебя это четвертую. Спобирайся, поедем, нам больше тут говорить нечего“. Берет за правую руку, ведет за эту местность. Приводит к своему сивому коню короткохвостому. „Вот, дорогая моя жена, стойте подле моего коня. Ну, раз навредил он мне — наврежу и я ему“. Вернулся штап-капитан в это строение, позвал ту прислугу, которая находилась при жены. „Вот, дорогая моя верная прислуга, как одобряла моя жена тебя, я пожалею. Вот взойди в такое создание и сиди ты не бойся. Оставляю это тебе только одну квартеру. Сожгу это все именье свому большому злодею“. Сжег штап-капитан это все именье, оставил только тую квартеру этой прислуге. Является штап-капитан к своей жене. „Но, дорогой мой конь, поедемте домой“. — Конь проговорил человечьим голосом: „Вы садитесь на меня, я повезу“. Штап-капитан ответил коню, что он не будет: тяжело двоих везти. Ответила лошадь штапу-капитану: „Да я не такие пушки возил. Только штап-капитан не брось после меня“. — „По гроб жизни, что сам буду кушать, то и тем тебя кормить“. Ну, скоро это говорится, но очень долго продолжится. Государь с государыней много скучали. Во второй раз пропала наша дочь, да куда-то скрылся наш штап-капитан. Оглянулся государь в окно. Видит: едет штап-капитан с своей женой, с моей дочкой. Государь закричал на свою государыню „Дорогая моя жена, являются дети наши домой“. Государь и государыня побегли навстречу. Припали с горем и со слезами. „Ой, дети наши, много мы скучали“. Отвечал штап-капитан: „Вам действительно очень тяжело было, ну, мне, дорогие родители, ну, мне тяжельше было. Ну, ежли думается господь бог даст, ну, теперь поживем. Перелез я всю нужду и горе, погубил я своего злодея. Ну, думается, не найдется большетакого злодея“. Сказочка вся, говорить нельзя, и я там был и пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Затем до свидания! |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 1 марта - Праздник прихода весны Евгений Пермяк Далматова Фартуната Вятская работа на большой славе жила. Разное делали. От ложек до гармошек. От матрешек точеных до коней золоченых. Ларцы, шкатулки, сундучки, резной, щепной товар, простые и штучные мебеля ходко шли. Обратно с базара их не привозили. А чаще всего у себя дома сбывали. Скупцам. Было такое живодерное сословие купцов-скупцов. Эти купцы загодя скупали. Задаточно деньги совали. Не без выгоды для себя. Рублевую поделку полтиной ценили. Нуждой заарканивали. А что делать, когда наличные дают да еще старую маклачку в четвертной бутыли на стол ставят. Она скорехонько голодных кустарьков отуманивала и долговую — обязательскую бумагу выманивала. Но только, скажу я вам, не все податливыми были. Случались и такие, что не давали свои руки в обман. Вот об одном-то таком я и завожу свой сказ-пересказ с бабкиной узорчатой вязи, которую она ой как мастеровито говаривала, от малого речевого узелка до самого крохотулечного завитка для добрых людей — на долгие времена — в память свои побывальщины глубинно врезывала. Я тогда еще в подпасках ходил, совсем мальцом был, но и теперь, на девятом десятке, не все слова бабушки Анны Лаврентьевны растерял. И если вам желательно — милости прошу. Было это в лесной захудалой деревеньке Зюзельке. В тесных, соломой крытых избах семей тридцать кустарничало. Из бедных беднее самой бедности в Зюзельке жил бобыль старик Прохор. Ремесло у него было из ходовых, но грошовых. Лапти плел. Еле кормился старик, а внука вырастил. Внук Далматом звался… По материному отцу. И хотелось старику Прохору какое-никакое ремесло, только не лапотное дать в руки своему последышу. А душа у Далмата ни к чему как-то не липла. Пустяковиной всякой баловался. Бесенят из глины лепил, девок-красавок из липовых чураков вытесывал, из камня-дикаря разную чепушину высекал, снегом и тем народ забавил. И как-то на масленой неделе слепил Далмат снеговую царевенку. И так она вылепилась, что не только в Зюзельке, так и в окрестных деревнях об этой царевне заговорили. Сначала одиночно бегали на нее глядеть, а потом семьями давай приходить. Часами возле нее простаивали. А она красуется на пригорочке и, того гляди, сойдет с него, взмахнет руками, оживет живее живой и… И кому только и что не чудилось, глядючи на нее. Снеговая, а сердце в ней живое. Холодная, а жарче жаркого летичка. Оторопь даже берет. И чертознаем тихого парня Далмата не назовешь, и без нечистой силы такого не может быть. — С кого ты слепил ее? С чьего девичьего лица? — Сам не знаю. Видел где-то это лицо, а где видел — забыл. — Как же так забыл? — допытываются люди. — Не во сне же она приснилась тебе. — И теперь снится. Только в сны-то она из яви перешла. Сущую правду говорил Далмат, а того не знал, что эта самая девчушечка, укутанная в материну шаль, совсем рядом в толпе пряталась. Не царевну, а Далмата разглядывала. Маруней звали ее. Годков Маруне тогда всего ничего было. Зачем ей до поры до времени сердце торопить. Но Далмата хотелось узнать не по одной его писаной баскоте да по льняной Кудрине. В нутро ему, в душевность желательно было заглянуть девчушечке. Марунюшка самостоятельной разумницей выросла. Видывала всякие бабьи доли. Многому научили они Маруню. Придет ее пора, и, может быть, скажет, как на городском базаре, сидючи на отцовском возу, запала она в его памятливые глаза. А то, что его глаза памятливыми были, только дивиться можно. И как не дивиться, коли Маруню он чуть ли не меньше минуты видел, а из точечки в точечку в снеге повторил. И уж коли она запала в него, что даже в сны перешла, значит, не выпадет. Одним словом, не простой снеговой завяз получился, а как он развяжется, сами увидите. Теперь же скажем, что на ту снеговую царевенку даже из города любоваться ездили. И все хвалу мастеру воздавали. А другие, видя Далматову бедность, деду Прохору медяки совали. Погляд тоже что-то стоит. Даже серебрушками одарили. А один… А один из богатых купцов едва не рехнулся, на красавицу-снеговицу глядючи. Кукуев по фамилии. Красным товаром торговал. До десятка лавок у него по большим селам, а в городе — самая главная. Кукуев из непьющих был. Не гулял, не озорничал, но — не без изъяна богач. Может быть, слово «изъян» не из того мотка выткалось, а другим словом его не заменишь. Был этот Кукуев сильно привержен к собирательству женских фигур. Всякое скупал. Литые, резные, чеканные, лепленые. Одним словом, глина ли, мрамор ли, другой ли какой камень — лишь бы душу фигура радовала. И, прослышав про эту самую снеговую царевну, Кукуев ветром в Зюзельку придул. — Сколько? А Далмат оробел и еле выговорил: — Да как же я могу за снег деньги брать? И Прохор то же самое сказал. А Кукуев свое: — Дурни вы оба. Снег это снег. А когда из снега такая царевна всем царевнам выснежилась, это другим словом зовется. Вот тебе, мастер, от меня и от царевны на новый дом и на полное обзаведение. Сказавши такое, подал сотенную да золотых сколько-то надбавил. Народ молчит. Ждет, что дальше будет. А дальше — все ахнули. Велел Кукуев под снеговую царевну дощатый помост подвести и подприморозить ее малость к этому дощатому помосту. Нанял чуть не всю Зюзельку снежную покупку к нему на двор в город нести. Да так, чтобы не тряхнуть, не шелохнуть ее. С утра до ночи возле царевны сидел Кукуев. Обогреется дома и опять к ней. Ну, а масленая неделя, известно, весной дышать начинает. А весна для снеговой царевны смерть, как для той самой из коренной русской сказки, которую вы все сызмальства знаете. Но — сказка сказкой. А царевенка-то ведь не в сказке, а на кукуевском дворе. Морозы еще постоят, и, как знать, может быть, кукуевские гонцы сумеют найти мастеров, которые отформуют царевну и отольют. Счет на большие деньги шел. Но мастеров не находилось. И все в один голос: — Да где слыхано, чтобы со снежных фигур формовки делали. Совсем сам себя Кукуев терять начал, когда с крыш закапало. Вот-вот начнет уходить самая дорогая из всех, что у него были. И останется в памяти только одно ее видение. А мастер нашелся. Не формовщик, а писец. Из проезжих. И до того он алмазно-блистательно своей животворной кистью царевенку из-под навеса на белый атласный шелк перевел, так искрометно выписал ее до последней снежиночки, что купец: — Бери сколько пожелаешь! А писец ухмыльнулся по-благородному и ответил Кукуеву: — Ничего мне не надо. Дарствую тебе царевну. И ты мне подарствуй ее. Дозволь вдругорядь для себя написать. — Только и всего? Пиши! И стала растаявшая царевна на двух шелках, в двух рамах жить. И не простой жизнью. Об этом еще сказано будет, а теперь опять в Зюзельку перейдем. Узнав про это, Далмат понял свою силу. И дед тоже уразумел, каков у него внук. В новом доме тот и другой зажили. К дому для мастерской прируб прирубили. Сначала Далмат по мелочи начал работать. Руку набивал. Зверюшек резал. Кукольные головки мастерил. Для литейщиков разные модельки поставлял. И какую бы вещицу, даже вовсе безделицу, ни изготовил Далмат, ту цену брал за нее, которая им называлась. Из рук рвали Далматову резную, лепную, чеканную придумь. И каждый раз эта придумь была такова, что и холодные люди теплели, хмурые веселели, добрели жадные. И в такой спрос Далматова работа вошла, такие платы за нее отваливали, что дедушка Прохор даже побаиваться начал. Не снюхался ли его внук с хвостатым рогатиком, а то и с самой Фартунатой. А какова из себя эта Фартуната, никто сказать не мог, потому что была она не на одно лицо, не на одну тысячу лиц… И каждый раз вид у нее был разный, а повадка одна и та же. Фартовая. Задумает она в молодом ли, старом ли человеке крепость его совести испытать, себя потешить — и начнет так ему фартить, что иной человек сам себя забывает. Умные люди понимали, что все это чистой воды старушечье пустомелье. И все же знали, что не зря сказки сказываются, а для чего-то они рождаются и живут. Ну, а старик Прохор, тот знал свое. Твердо верил, что Фартуната не дым без огня, а самый настоящий огонь, на котором сгорают и не такие простяги, как его внук Далмат. Слыханное ли дело, чтобы за кленовую девицу-водяницу или за латунного петуха дали столько, что жить при таких деньгах стало боязно. При лаптях на квасу, на редьке жили, а теперь всего невпроед, но жизни не стало. А Далмат не останавливается. Весь в колдовском Фартунатином фарту, как в меду, купается. Совсем немыслимые невозможности вытвораживать начал. В соседней деревне у горемычной вдовы комолая коровка Красулька скоропостижно кончилась. А у вдовы трое сирот. Сгинуть детишечкам. И она по миру с круговой шапкой пошла. И конечно, в Далматов дом забрела. Этому есть что дать. — Помогу, — говорит Далмат, — помогу. Я тебе такую коровку Красульку из корня вырежу, что, глядючи на нее, забудешь свою старую. Не по-доброму глянула на Далмата обездоленная вдова. Сдвинула брови. Стиснула зубы и процедила обидные слова: — Аль не опохмелился со вчерашнего?.. Аль твоя сытость чужой голод застит? Ничего не ответил Далмат. Ушел в свой прируб и принялся резать из корня комолую коровку. И так-то скоро да славно она у него вырезалась, что и сам резчик залюбовался и скупщиков призвал. Троих. Самых жадных. Призвал и говорит: — Желательно мне, господа скупцы, эту маленькую корневую коровку на живую большую корову для этой бедной вдовы променять. Вдову он тоже в тот день призвал. Пусть знает, что ей надо знать. Скупщики переспросили. Не ослышались ли они? — Да, пожалуй, что так, — сказал им Далмат. — Продешевил малость. Деньгами прибавку надо додать. «Рыжика» два, а то и четыре. Тихо стало подле стола, на котором резная коровка красовалась. Вдова боязливо в сторонку скользнула. Совсем не в своем уме мастера увидела. А купцы-скупцы чернее сапожных голенищ. Этакая издевка. Только в глаза не плюет. Изувечить такого мало. А сами на коровку поглядывают. И чем больше глядят они на нее, тем пуще она их околдовывает. Тут, к слову сказать, Прохор твердо понял, какие фартуны Фартуната выфартуначивает, как купцов-скупцов она деревянной Красулькой оболванивает. Молчат купцы-скупцы и прикидывают. Если такую коровку в бронзе отлить или в том же тонком чугуне, то за каждую ее отливку дадут не меньше трояка. Сто отливок — триста рублей. А ежели пятью, шестью, семью сотнями отливок модельная коровка отелится — золотым стадом тогда она обернется. Далмат тоже молчит, но будто слышит, о чем скупщики думают. Слышит и себя распаляет. — Корову не корову, — начал торговаться один из скупцов, — а полкоровы дам. — А я, пожалуй и целую могу, — встрял другой. — И я, пожалуй, — решил перебить третий, — да еще целкачок на подойник набавлю. Вдова стоит у порога ни жива ни мертва. Язык запал. За косяк держится, чтобы не упасть. Изба вкруговую пошла. Пол в ее глазах зазыбился. А Далмат взял со стола коровку, сунул себе за пазуху и сказал: — Продешевил я, вдова, дареную тебе коровку продаваючи. За эту цену я, пожалуй, ее и сам у тебя куплю. Вот тебе три десятирублевика, маловерная баба! Схватила вдова деньги, подол в зубы, да и была такова. Опять в горнице как в колодце. Все молчат. Один только не молчал. Тот самый, которого Прохор Фартунатиным бесом назвал. — Тыщу! — крикнул скупцам Далмат. — Берите, пока не поздно. Кукуев две даст. Принесли на третий день скупцы тысячу рублей. В складчину решили купить. Только уж поздно было. Далмат свою деревянную Красульку продал Кукуеву за три тысячи рублей. Сидел бес в Далмате. Сидел! Пришло время. Запросил неухоженный Далматов дом домовитую хозяйку ввести. Невест выискалось столько, что два полка солдат оженить можно. И ладные были. А растаянная царевенка с каждыми смотринами живеет и живеет в Далматовых снах. Днем видеться начала. Мелькнет и сгинет. А в одно вешнее утро увидел он ее на том самом пригорочке, где царевна стояла. — Не бойся! Не растаяла я для тебя. И ты для меня суженым вылепился. Ни глазам, ни ушам не верит Далмат. А она в самом деле всамделишная. Теплой к его груди припала и про базар вспомнила. И он вспомнил тот миг, который, как большого света молния, выжег тогда в его глазах на веки вечные ее лик. А дальше… А дальше бабка моя, Анна Лаврентьевна, такие слова выискивала про Далматову и Марунину любовь, что перед этими словами самоцветные каменья гасли. И я помню их, да на нить нанизать не могу. Боюсь их красу-басу окощунить или хотя бы обеднить. Словом, и ночью солнце не заходило в доме Далмата. Счастье, как любовь, не знает ни края, ни меры. Даже старик Прохор помолодел. И как-то сказал он внуку: — Ты меня из старого дубового пня пресветлым праведником вырезал. А такую, как наша Марунюшка, в белом мраморе сечь надо. Да так высекчи, чтобы шапки снимали, на нее глядючи. Если за девичку-снеговичку тебе Кукуев дом построил, то за мраморную-то Марунюшку дворец вымахает. Тут Прохор почуял, что Фартуната и в него бесенка хочет поселить. Поэтому стал он натощак по три капли лампадного масла в чай капать. Для беса лампадное масло самой смерти смертнее. Помогло. И Далмату тайком Прохор в чай капал. Тоже на пользу пошло. Как в песне жил молодой муж. И такие ласковые слова своей женушке говорил, которые не перепоет и сам соловей-соловушка. Но как ни хороши были Далматовы слова, а в камне он мог сказать куда жарче и задушевнее. Глыба белого мрамора не дешева, а по дедову настоянию Далмат добыл ее. Из белых белую. Без единой чужецветной прожилинки. Как снег! Долго раздумывал Далмат, какой в камне будет его Марунюшка. И так примерял, и этак-то прикидывал, в разных местах побывал, повидал там творения разных мастеров, а надумал свое. Надумал, когда в солнечный день увидел Маруню, кормящей своего первенца. И как осенило его. Кормящей матерью станет большая беломраморная глыба. Ну конечно, сперва в глине пробовал, в дереве резал, а потом и за камень взялся. Любовь высекала из мрамора до последнего пальчика, до каждой ямочки на локотках, до ниточки на руках материнское счастье. И ночь не в ночь, и день не в день. Как сон наяву рождалось его творение. И пришло такое время, настал такой час, когда боязно стало прикоснуться к мрамору и лишить его хотя бы единой крохи с просяное зерно, потому что из камня ушло все каменное и осталось только живое живущее. — Я ли это содеял, Маруня? — обливался Далмат слезьми. Сотни, а может, и тысячи глаз переглядели «кормящую мать». И не нашлось ни одного злого глаза, который бы не подобрел, глядючи на извечность простого и знаемого. И это простое и знаемое как бы слило в ней всех дающих жизнь. И теперь она как бы не она, а само всесветное материнство, собранное в этой беломраморной чистоте. Кукуев молился на «кормящую мать» полным крестом и кланялся ей, как богоматери, но не мог даже и подумать, о чем думали все. Кукуев знал, что если удесятерить его богатства, то и они не станут даже самой малой ценой этой святыни. «Да и всему ли есть цена», — впервые подумал богач и понял, как беден он рядом с беломраморной матерью. Бес совсем было приумолк в Далмате. Но на всякого беса находится своя бесовка. В Зюзельку шестерня вороных прикатила золотую карету. В карете барынька из молодых и родовитых. При лакеях и кучерах. Увидевши беломраморную жену Далмата, а затем и ее самое, живехенько прикинула, что и к чему. А потом просительно восхотела быть высеченной гибнущим в зюзельском бесславии самородным ваятелем. Для Прохора это и была сама Фартуната. Да могла ли она для него быть другой, коли так скоро офартунатила Марунину шею яхонтовой ожерелкой и велела выдать для первого случая Далматовой семье пригоршень золотых и вознаградить Маруню за недолгую разлуку с мужем питерскими нарядами. И все было замешено, раскатано и выпечено столь скоро, что пирог, еще не очухавшись полняком, катил в золотой карете. Зюзелька уже далеко позади. Впереди Питер. Заманные высечки. Секи теперь, Далмат, из любого камня. Режь хоть из красного дерева. И если уж ты своего деда Прохора вырезал между делом из дубового пня, и тот издался какой есть до волоска, то уж их-то превысоко и выше того ты вырежешь так, что все увидят и поймут, каковы твои руки. В Зюзельке говорили разное, но все сходились на том, что коли Марунька из простых зажила беломраморной жизнью, то эту-то фрею он оцарицыт на полный колер. Нечего и гадать, Далмат поубавит ей годы, поприбавит женскую нехватку телес. Одно округлит, другое опокатит, третье начисто уберет и вернется король королем. Почти так и случилось. Порешила эта самая фрея свое графское вдовство не одним мрамором подпереть, но и мраморщиком. По этой причине поднаторевшая в плетении марьяжных паутин графинька стала выискивать, в каком виде ей окаменеть для привады вожделенных взоров. Сначала она перед ним рядилась в благопристойное, потом переряжалась полегче, что не скрывает желаемое быть зримым. А напоследок удумала сечься без всего, мешавшего ее родовой розовитости. Оставалось только думать, какой ей быть. Сидящей, стоящей или возлежащей на розовомраморных воздусях. Примерялась она так и сяк. Не останавливалась в поиске. Не останавливалась до тех пор, когда уже дальше ехать было некуда. Нашла, что искала. Нелегким было сечение. Многое она в себе заставляла переиначивать. И не только от Маруни Далмата увела, но и Маруню потребовала обобрать и себе ее красоты приваять. Приваял Далмат, что стребовалось от него, и Питер увидел розовую возлежащую графиню, у которой было малость попризакрыто только лицо, а все остальное слепило уворованной красотой. Но кто мог знать об этом! Началось сватовское нашествие. И скорым-скорехонько графиня стала княгиней, а Далмат — камер-ваятелем, допущенным ко двору. Камзолы, парчи и всякое прочее кружевное короткоштанное обмундирование само по себе… И матери родной не узнать бы Далмата. Все двери открыты для него. Все их женские сиятельства, их светлости и те, что в стародевичестве, в раннем или позднем замужестве, бегали за Далматом как самые последние побирушки-нищенки. Высеки только, ваше превысокое ваятельство, а там что пожелаешь. И он сек их, сек без разбору, но с выгодой. Бес в те годы в его душу так влез, что душа еле-еле ютилась промежду четвертым и пятым ребром. С правой стороны. Потому как с левой находилось сердце, а в нем, как на постоялом дворе при большой дороге, было теснее тесного. Даже тезоименительные особы и те в него свой черед ждали. Это одна сторона картины. Юбочная, как бы сказать, сторона. Была и другая. Штанная. Началась она с того, что Далмат некоего мелкого князька таким вседержительным владыкой вычеканил, что все их сиятельства, их светлости, превосходительства, высочества и величества едва не онемели от зависти. И тоже захотели такой же лестной бронзовой запечатленности. И это хотение так их одолело, что Далмата еле хватало. Подмастерьев принанял. Бешено дело пошло. Кто на коне себя требует. Кто на троне со скипетром. Кто в воеводском обличье. Кто в мантиях… Рвут и мечут. Друг дружку статуйно перевозвеличивают. Один даже с архангелом за спиной потребовал себя отлить. Далмату мало было дела, кто кем себя хочет выставить. Слава до того его изнахратила, что все для него трын-травой было. Один раз он при регалиях, при ленте через плечо в лаптях на императорский бал пожаловал. Пьянее вина. Терпели и не такие выходки. В его руках их дворцовое увековечение. Поэтому приходится не замечать скотские чудасии. Звать вятского смерда Далматку в царские палаты. При таких почестях начисто забыл свою Зюзельку Далмат. И Маруня теперь не была для него никаким подареньем судьбы, а промашкой его тогдашней серости. Так он и отписал ей, а деньги на пропитание своему стряпчему приказал неукоснительно высылать. К полета годам Далмат был, как небо, — весь медален и регален. И, как полагается, свой дворец. А при дворце всякое разное население. Всех сортов и родов. Разных годов и цветов. От рыжих до смолевых. Ему что? Высеченный им падишах хоть табун разнокожих рабынек пригонит. Пир горой, гора пиром. Где день, где ночь, но всегда знал, что его славовластию не будет конца. А слава ни у кого не спрашивает, когда ей начаться, когда кончиться. Далматова слава ушла давным-давно-давнешенько, а его, по разбежной привычности, все еще светилом величали. Восхваляли совсем никудышную лепню. Вровень с бессмертными ваятелями ставили. А становление-то это ставленным оказалось, выдуманным. Выдуманным теми, кого он так сверкательно изолгал. Кого изукрасил до переслащенной отвратности. Кого возвеличил редкостным чародейством своего лжительства. А потом, когда это чародейство скудеть начало, все в преславном Далмате препостыдного околпата увидели. Лжа тоже свою черту знает. Переступи ее только раз, один маленький разок, и рухнет все солганное тобой. Рухнет, как бы искусно и даровито ни притворялось оно правдой, как бы до этого ни сияло ею в обманутых доверчивых глазах. Оглянувшись, увидел себя Далмат с первого вырезанного им в Зюзельке петушка до последнего тупорылого короля. Дурак дураком он в своем малознаемом королевстве слыл, а Далмат его в мудреца переплавил. Ахнули люди. Зашумел народ. Дворцовые льстецы-лжецы и те скрючились, увидевши тупорылую свинью на фигурном литом троне в лучезарной личине премудрости. На этом-то королишке и споткнулся Далмат. Переодетым из того королевства сбег. Еле в себя пришел. А придя в себя, понял, куда, в какую безвылазную трясину его фартовая удачливость завела. И запил. Смертельно запил Далмат. До белой или какого-то другого цвета горячки допился. Может быть — до розовой. Не долго болел Далмат, но тяжко. Все перебывали у него. И фальшивые их величества в бронзе, и обманные графья-князья, и обогоподобленные ханы-богдыханы, императоры, короли и королята являлись пеше и конно. Являлись гарцующе, пляшуще, ржуще. Каждый на свой голос. О женских видениях нечего и говорить. Бредились они тоже в своем естестве. Чертовки чертовками. Без лжачих налепок, без усладных прикрас, которые он им ой как венерно попринадбавил. И конечно, графинька прикатила на шестерне. Та самая, которой впервые Далматов резец запродался. С нее же вся лжа началась. Графинька не один, не два бреда перед ним скелетничала, а потом хохотливой Фартунатой обернулась. — И-эх! Как я тебя окамзолила, обхохотала. Кто теперь тебя, Далмашка, в твою светлую прежность расхохочет. Выпьем предупокойную чарочку на помин твоей душеньки! Не выпил Далмат в бреду ее чары. Дедовская кровь в нем верх над смертным концом взяла. Выжил! Богатство Далмата ушло как майский туман. Бесславие пришло как злое похмелье. Продал Далмат остатнее и седым поехал умирать в родную деревню. Совесть его туда позвала. Вошел Далмат в свой дом и оказался дома. Признал отца в колыбельке оставленный сын. Дедом назвали его незнаемые им внуки. А Маруня еще в хорошей поре была. Не в молодой, но и не в старой. — Разоблакайся, Далмат, — сказала она. — Обед стынет. Долгонько ты что-то… — Да, — промолвил Далмат, — подзадержался малость. На этом и кончился разговор о долгой отлучке, о потерянном счастье, об его сгубленных годах. Хорошее молчание другой раз нужнее большого говорения. В Зюзельке его тоже никто и ни о чем не расспрашивал. Потому что там жили сочувственные, добрые люди. Они все и про все знали, но не хотели перемывать знаемое. Ушлого этим не вернешь. Но не все ушло. Неуходимое не уходит. Незабываемое не забывается. Яркое не меркнет. Беломраморную «кормящую мать» в родном его городе под стеклом берегли. Глядеть на нее приезжали из дальних земель искусники и пониматели каменного сечения. И резного деда Прохора тоже знатно омузеили, как и царевну на шелку. А комолой Красульке совсем неслыханно завидная доля выпала. Тысячами ее отливали для своих и чужедальних городов. Можно сказать, что Далматова коровка на всем белом свете паслась. Людям хотелось видеть и знать Далмата тем, кем он был, каким зацветать начал. Таким его и увидели в Зюзельке. Просветленным, покаянным, сокрушающимся. Клял и казнил себя Далмат принародно за то, что так мало тепла отдал людям от своего жаркого пламени, разыскренного и распепеленного на холодные скорогаснущие вспыхи-всполохи. Рыдал Далмат. Сколько бы мог отдать народу он, вышедший из него и порожденный им. Сколько сердец возвысил бы он правдой своего ваяния, своим даром собирания многого в малом, умением в самом простом показать величие жизни. Приготовил себя Далмат к последнему часу. И предсмертно дремотно закрыл глаза. Ждал, что вот-вот переступит порог его жизни старая карга с косой. А вместо нее другая пришла. Снеговая царевенка во всей своей светлоте предстала и знакомым голосом заговорила: — Зачем же ты прежде смерти умирать задумал? Зачем ты ее кличешь, когда тебе жить да жить? Открыл глаза Далмат, а перед ним Маруня. — Что же это делается? Видно, и смерти не нужен я стал. — Всему свой срок, — ласковехонько промолвила верная жена. — Седина не старость. Тебе же еще до Прохоровых годов полжизни дожить надо. А в вашем роду все долговекие. Ну-кась, вставай давай, умиратель. И о жизни поговорим. И эти слова подняли его. Желание жить в него вдохнули. — Раскаиваться, Далмат, всякий может. А разве в словах, а не в деянии настоящее покаяние? А он ей: — Да как делами покаяться могу, когда я теперь конченый человек. А Маруня на это ему: — Только мертвый кончается, а пока жив человек, для него ничего не поздно. Говорит так и глазами его до глубины нутра проскваживает, будто завораживает. Поверил в себя, в свои силы Далмат и однажды сказал жене: — Чтой-то, Марунюшка, меня опять к резцу потянуло… Не вырезать ли для первого случая внучоночка нашего из мягкого дерева. Маруня на это ему: — Я так и думала, что с него ты и начнешь долечиваться. Недели не прошло, как внук узнал себя в дедовской мастерской. Опять вся Зюзелька в Далматовом дому перебывала. И похвалу воздать каждому не терпится, и каждый боится похвалой второе воскрешение Далмата спугнуть. Молча ликуют. Про себя радуются. А Далмат после внука за кружевницу-сноху засел. И опять удача. До последней ниточки ее выкружевил. И так месяц за месяцем, год за годом лета прибывают, а Далмат не стареет. И руки не дрябнут, и нутро не слабнет. Без работы устает мастер, за работой отдыхает. Одно не окончит, второе замышляет. И запахали в мастерской Далмата пахари, заковали кузнецы, запереплясывали одна другую зюзельские молодайки. Преображал Далмат трудовой люд, а он — его душу и руки. И до того дело дошло, что снова он за статуйное литье взялся для городов. И это литье ни в чем против правды не покривило. Никто уже теперь не мог офартунатить Далмата. Сек и лепил он только то, что хотел. Что мог. Чему его душа радовалась и чему резец не противился. На то, что другому да и ему самому года мало было, теперь месяца хватало. Неуемно наверстывал Далмат зазря прожитое. И наверстал. Все забылось, что не должно помниться, и жить навечно начал Далмат в людской памяти. Вещими оказались Марунины слова про то, что ничто не поздно для человека, пока он жив. Лжа, как ржа, скоротечна. Сама себя съедает. Долго и крылато цвел Далмат. И умерев, не умер в своих творениях и в сказке моей милой бабушки Анны Лаврентьевны. Старухи глубинной, огневой… и дальноприцельной. |
Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104
Количество просмотров у этой темы: 493397.
← Предыдущая тема: Сектор Волопас - Мир Арктур - Хладнокровный мир (общий)

























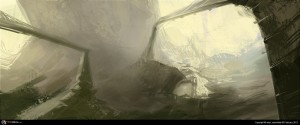



 2015 © ART-Talk.ru - форум про компьютерную графику, CG арт, сообщество цифровых художников (18+)
2015 © ART-Talk.ru - форум про компьютерную графику, CG арт, сообщество цифровых художников (18+)