Список разделов » Сектора и Миры
Сектор Орион - Мир Беллатрикс - Сказочный мир
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ А ещё, 1 мая – Бельтайн История Колпачка Ирландская сказка
В долине Ахерлоу, у подножья сумрачных Гальтийских гор, жил увечный бедняк с большим горбом на спине. Был он маленького роста, немощный, не было у него сил работать в поле. Поэтому он зарабатывал на жизнь тем, что плел корзины из лозняка и продавал их местным жителям. Несмотря на свое увечье, был он человек жизнерадостного, веселого нрава и любил за работой распевать песни. А еще он любил прикалывать к своей шапчонке пучок наперстянок – цветов, которые часто называют колпачками фей . Неудивительно, что люди прозвали маленького горбуна Колпачком. Однажды вечером возвращался Колпачок с базара, где продавал свои корзины. Наступила ночь, надо было поторопиться, но быстро шагать бедняга не мог. Наконец он выбился из сил и присел отдохнуть на кочке возле каких-то полузаросших развалин. И вдруг в тишине и в темноте раздался звук дудочки. Колпачок прислушался и различил мотив – простой, но такой отрадный и чудесный, какого он отродясь не слышал. Зазвучала песенка, хор тоненьких голосов с необыкновенным совершенством выводил мелодию, а слова были такие:
Понедельник, вторник, Понедельник, вторник, Понедельник, вторник...
На этом месте пение как-то неуверенно обрывалось, а потом повторялось все сначала:
Понедельник, вторник, Понедельник, вторник, Понедельник, вторник...
Колпачок наслаждался необыкновенной музыкой. Он понял, что нечаянно подслушал спевку Волшебного Народца Из-под Холма. Малютки, должно быть, сочиняли новую песенку, но что-то у них не ладилось. Колпачку захотелось им помочь. Он приготовился и – когда в третий раз прозвучало:
Понедельник, вторник, Понедельник, вторник, Понедельник, вторник
– вступил и допел красивым, звонким голосом, завершая мелодию:
И среда!
На несколько секунд воцарилась удивительная тишина. И вдруг раздался веселый шум, щебетание тоненьких голосов, смех, радостные возгласы, и Колпачок увидел, что его окружила толпа маленьких музыкантов. Это были волшебные жители холмов, которых ирландцы называют сидами, а англичане – феями или эльфами. Малыши ликовали, что песня у них наконец получилась, и без устали распевали, приплясывая вокруг Колпачка:
Понедельник, вторник, Понедельник, вторник, Понедельник, вторник И сре-да!
Наконец один из сидов, видимо, старший, потребовал тишины и, выступив вперед, обратился к Колпачку с такой речью: – О певец, искуснейший среди смертных! Нам прискорбно видеть тебя обремененным этим тяжелым горбом. К счастью, одного взмаха волшебной палочки достаточно, чтобы навек избавить тебя от уродства. Такова наша благодарность тебе за чудесную песню. Прощай, Колпачок! С этими словами он взмахнул палочкой... и все замелькало в глазах Колпачка, закружилось в стремительном хороводе и исчезло. Без чувств он упал на росистую траву и уснул, а когда проснулся, уже наступило утро. Колпачок вскочил на ноги и впервые в жизни распрямился – горба у него за плечами больше не было, он сделался статным и красивым парнем. Многие его не узнавали. Пришлось вновь и вновь рассказывать всем и каждому историю про сидов, прежде чем люди поверили ему и признали в нем прежнего Колпачка. Случилось так, что проведал про этот случай другой горбун, по имени Джонни Порченый, и тоже решил попытать своего счастья. Он пришел с вечера на то самое место, о котором рассказывал Колпачок, и сел там на кочку, дожидаясь темноты. Сидел он так долго, долго и уже начал было задремывать, как вдруг раздались тоненькие голоса, пенье дудочки, и Джонни услышал, как веселый хор поет песенку:
Понедельник, вторник, Понедельник, вторник, Понедельник, вторник И сре-да!
Ага! – подумал Джонни. – Колпачок подсказал им только один день – среду, а я подскажу целых два. Небось за это меня и наградят щедрей: не только избавят от горба, но и дадут золота. У них ведь, говорят, много золота – у этого чудного Народца Из-под Холма . Рассудив таким образом, Джонни раскрыл пошире рот и, едва только хор успел пропеть Понедельник... , поспешно закричал ни в склад, ни в лад:
Четверг и пятница! Четверг и пятница!
Все смолкло – но только на миг. Потом раздались шум, возгласы, сердитые голоса: – Какой невежа это закричал? Кто испортил нашу песню? Джонни увидел себя окруженным возмущенной толпой малюток, они кричали и показывали ему кулаки. Внезапно один из них, с волшебной палочкой в руке, выступил вперед и сказал: – О глупец, несноснейший среди смертных! Ты получишь награду, достойную тебя. Быть тебе до скончания века таким же нескладным, как твоя песня! Он взмахнул палочкой... Все закружилось в глазах у Джонни, и он рухнул на землю как подкошенный. До утра проспал он на росистой траве, а когда проснулся и ощупал свою спину – о злосчастье! – не один, а два горба было у него за плечами. Кое-как побрел прочь жадный Джонни, разгневавший сидов. А веселый Колпачок жил долго и счастливо, радуя людей своими песнями и добрым нравом. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ Ну, и наконец, 1 мая - День гитариста Автор под ником Шаманджи Сказка про Гитару
Что за странное желание? Сказка про Гитару. Да нет, не трудно. Можно и про неё. Ладно, слушай. В пыльном углу за платяным шкафом жила-была Гитара. Жила как будто бы неплохо. Дождь, снег и мороз, палящее солнце – существовали за окнами, а здесь в её мире всегда держалась комфортная температура. Гитара была новенькой, неигранной, чем очень гордилась. Она попала сюда сразу из магазина уже достаточно давно, но выглядела до сих пор очень даже прекрасно. Раз в пол года Гитару доставали и тщательно вытирали пыль, и в её закутке тоже наводили порядок, убирали паутину и выгоняли пауков. Хотя это уже было лишним. С пауками как-то веселее жилось, а без них было совсем скучно. Но через несколько дней пауки вновь приползали, и жизнь входила в привычную колею. Так и жила. Но однажды её достали из-за шкафа, тщательно вытерли и отполировали, подтянули и настроили струны. Гитара вначале испугалась: «Эй, полегче, не порвите!» Струны аж звенели от напряжения. Но потом Ловкие Руки извлекли несколько красивых аккордов. «Неужели это я так пою? – не верила и радовалась Гитара. – Какая я талантливая! Наконец-то меня оценили по достоинству. Вот теперь заживу по-настоящему. Эх, пауки, пауки, знали бы вы с кем общались столько лет. Да куда вам. Ваш удел – пыльный тёмный угол. Что вы понимаете в настоящем искусстве?» И словно в подтверждение её заслуг, Гитаре повязали красивый розовый бант и повесили на стенку в самом видном месте. Это было счастье. Прошли годы. Гитаре попались необщительные и эгоистичные соседи. Рамки со старыми Фотографиями занимались важным делом – сохранением исторических изображений для потомства. Бра считала себя местным солнцем и сильно зазнавалась, а Старое Кресло лишь иногда поскрипывало, когда не дремало. Пауки сюда приползали редко. Гитара очень скучала, расстраивалась, отпуская струны. Поник и потускнел розовый бант. Но в один прекрасный день всё изменилось чудесным образом. Гитару стали периодически снимать со стены и играть. Вскоре она подружилась с сильными Ловкими Руками. У них получалось всё лучше и лучше. Соседи тоже сменились. Вместо Рамок со старыми Фотографиями, появились Рамочки с изображением симпатичной Девушки. Новые соседи охотно общались с Гитарой. Им было что обсудить. Хозяин Рук, партнёров Гитары, и Глаз, которые часто смотрели на фото Девушки – влюбился. Даже Кресло начало проявлять интерес к происходящему и радостно скрипело всё чаще. Только Бра продолжала любоваться собой, её не трогали «мелкие страстишки». И вот, наконец, в квартире у Хозяина Рук и Глаз поселилась Девушка с Фотографии. Она привела с собой красавца Синтезатора. Гитара и Синтезатор полюбили друг друга с первого звука. Они стали частенько устраивать великолепные концерты с участием хозяев. Все были счастливы. Только Бра злилась и однажды перегорела со злости. Её сняли и убрали за шкаф к паукам, пусть там зазнаётся. А на место Бра поставили уютный Торшер, который быстро со всеми подружился. Даже Старое Кресло перетянуло обшивку – нужно же было соответствовать. Воцарилась музыка и гармония. Вот тебе и сказка про Гитару. Понимаешь – любовь изменяет наш мир!
Август 2009 |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 2 мая - Международный день астрономии Макс_Артур Легенда о звездочёте Взято отсюда:
В далёкие времена жил на свете звездочёт. Годы напролёт с вершины своей башни наблюдал он за ночным небом. Башня звездочётов стояла на вершине высокого холма, вдали от огней городов. И там, поколения за поколениями, жили и несли свою таинственную службу представители древней и весьма почетной профессии смотрителей звёзд. Звёздочет был уже весьма пожилым человеком. Детей у него не было, ибо красавица-жена умерла совсем молодой, так и не успев родить наследника. И ныне, в зимние годы человеческой жизни, старик был очень одинок. Единственной отрадой была для звездочёта работа. Каждое изменение на звёздном полотне неба старик отмечал в толстой книге. Таких томов за века накопилось более двухсот, и хранились они в подвальном помещении в основании башни, где мыши, сырость и время грызли их одними и теми же неумолимыми зубами. Барону, на содержании которого находилась башня звездочётов, не было дела до прошлого, как впрочем, и многим другим сильным мира сего. За свою долгую жизнь, включая и то время, когда главным в башне был отец, звездочёт наблюдал пришествие трёх комет, четыре полных солнечных и множество лунных затмений. К старости глаза стали подводить звездочёта, однако не было сына, который мог бы прийти на выручку. И хотя башня возносилась на огромную высоту, являясь наивысшим творением человеческих рук в мире, небесный свод от этого ближе не становился. Звёзд на небе было ровно три тысячи двадцать. Каждую ночь звездочёт пересчитывал их, и в последние годы, случалось, подолгу высматривал слабую звёздочку, пока не убеждался в её существовании. Однако звёзды никогда не умирали, не гасли. Эти вечные создания, родившись, жили своей неведомой жизнью в глубинах космоса, точно бессмертные души, которых всё больше в незримом мире с каждым новым поколением людей. Рождение новой звезды было явлением чрезвычайно редким, а по красоте и вовсе ни с чем не сравнимым. На тёмном доселе клочке небосвода появлялась вдруг слабая искорка. Семь дней новая звезда была едва заметна, но затем разгоралась с невиданной силой, затмевая светом даже желтоликую луну. Иногда молодую звезду видели даже днём. В этот период, длившийся до полугода, необходимо было дать звезде имя. Эта на первый взгляд простая задача требовала соблюдения древнего правила – звезду необходимо было окрестить именем человека, чистого душой и помыслами, и при этом находящегося в большой опасности. Являлось это страшной хворью или тяжким ранением, не имело значения. Ритуал должен был быть соблюдён, и в этом случае новая звезда, скромно сияя, занимала своё вечное место среди других небесных красавиц, украшая собой узор созвездия, или же в гордом одиночестве, дабы во все времена развеивать ночную тьму живущим на земле. Но если человек, в честь которого называли новую звезду, был недостаточно добр и чист мыслями, или не выполнялись иные условия ритуала, новорождённая звезда бесследно гасла. Всю свою жизнь звездочёт мечтал увидеть подобное чудо. В последний раз рождение звезды случилось ещё при его деде. Тогда небесной красавице дали имя славного рыцаря, что ценой собственной свободы спас мир от тёмной участи, и в минуту опасности душа рыцаря была спасена. Сто семь лет прошло с той поры. Судя по записям, в древние времена звёзды рождались гораздо чаще. Не значило ли это, что благих людей тоже было всё меньше? Однако чудеса случались и поныне. В одну великую ночь старый звездочёт углядел на небе новую звезду, ещё такую слабенькую и неясную. Но спустя неделю она засверкала несравненным бриллиантом в бархате неба, и только слепой не желал любоваться вечерами её дивным сиянием. А спустя несколько дней в башню наведался сам барон. Вместе с ним из далёкой страны приехал и другой человек, старец с окладистой белой бородой. С того дня, как новая звезда засияла во всей красе, все мысли звездочёта были о её будущем имени. Сколько не напрягал старик свою память, так и не смог вспомнить ни одного ныне живущего, достойного дать звезде своё имя. А ведь требовалось ещё и спасти такую личность, дабы наречение светила обернулось добром для этого человека. Поэтому когда звездочёт из окна своей башни увидел выходящего из кареты вслед за бароном незнакомца, в душе старика шевельнулась надежда. Барон приветствовал звездочёта. - Мой старый друг, - молвил ему владыка здешних земель. – Свершилось то, чего ты ждал столько лет. На небе зажглась новая звезда. И я пригласил издалека этого человека, надеясь, что его изобретение поможет тебе в твоих наблюдениях. Он познакомил двоих стариков: учёного и звездочёта. Гость протянул смотрителю звёзд странное приспособление. Это была сдвоенная деревянная трубка длиной с локоть, охваченная бронзовыми кольцами. С обоих концов поблескивали стеклянные глазки, с одной стороны размещённые на расстоянии человеческих глаз. - Это называется телескоп, - пояснил гость. – Он приближает предметы. С ним самые тусклые звёзды будут видеться яркими. Астрономы в моей стране пользуются телескопом уже несколько лет. - Это мой подарок тебе, - добавил барон. – Изобретение стоит больших денег. Звездочёт, весьма польщённый, низко поклонился, хоть это и отозвалось болью в спине. Старику уже не терпелось, чтобы настал вечер, когда он сможет взглянуть на своих небесных любимиц, а особенно на новую звезду сквозь это приближающее изобретение. Какой будет она? Не станет ли она светить ярче Солнца? Однако барон приехал не только за тем, чтобы дарить подарки. Попрощавшись с изобретателем, он присел в удобное кресло, где звездочёт любил листать старинные манускрипты. - Знаешь, у меня беда, - начал барон и замолчал. - Какая же? – спросил звездочёт, когда учёный вышел. - Заболела моя единственная дочь. - Сожалею, - с участием произнёс старик. – Что говорят лекари? - Это какая-то южная лихорадка, - тяжко вздохнул барон. - Но чем же я могу вам помочь? - О! Только ты мне и можешь помочь! Мне ведь известно: если назвать новую звезду именем человека, чья жизнь в опасности, то этому человеку становиться лучше. - Не всегда «лучше» в нашем понимании этого слова, ваша светлость. У звёзд своё значение этого. Сто семь лет назад… - Я знаю, знаю, - перебил барон. – Но тот рыцарь не мог остаться в живых после того, как упал и разбился. Пределы чудесного исцеления не безграничны, поэтому твой дед сумел спасти лишь душу рыцаря. И всё же в нашем случае девушка тяжело больна. Насколько я знаю, смертельные болезни подобный ритуал исцелял. - Это верно, - не мог не согласиться звездочёт. – Но есть ведь и второе условие… - Ты сомневаешься в доброте и чистоте моей дочери? – вскинул брови барон, готовясь разгневаться. - Нисколько не сомневаюсь, ваша светлость, - солгал старик. – Но ведь человек должен быть не просто добросердечным; он должен быть святым. Это должен быть тот, кто оказал неоценимую услугу всем живущим. А таким сейчас и во всём мире не сыщешь? - Хм! И всё же я считаю: если ты назовёшь звезду именем моей дочери, традиция не будет нарушена. Это прелестная девушка, любящая дочь, и когда-нибудь будет верной женой своему мужу. Что ещё надо?! Звездочёт собрался снова возразить, но ему не дали сказать. - А пока ты раздумываешь, подумай ещё вот над чем: сотни лет мой род обеспечивал золотом ваши наблюдения и кормил тебя и твоих предков. Мне бы не хотелось, чтобы ты оказался без средств к существованию, особенно в таком немощном возрасте. - Я понял вас, ваша светлость, - тихо промолвил старик. – Я назову звезду именем вашей дочери. Но позвольте мне хотя бы узнать подробней о её болезни. - Куда уж подробней! Несколько месяцев тому бедная девушка гостила далеко на юге, тогда и захворала. И без твоей помощи она не проживёт и месяца. Так говорят лекари. - Хорошо, в полночь я исполню ритуал наречения. И если, вопреки моим опасениям, новая звезда согласится носить имя баронессы, девушка выздоровеет в тот же миг. - А если нет, изволь покинуть эту башню, - хмуро добавил барон. – И я поселю здесь одного из этих астрономов с телескопами. От них будет не в пример больше пользы. - Я сделаю всё, что смогу, - заверил звездочёт. – Но именно моему роду предначертано давать звёздам имена, а не этим новоявленным астрономам. - Мне очень жаль, мой старый друг, - без тени сочувствия заметил дворянин, - но род твой пресечётся на тебе. А астрономы всегда пригодятся. Тот изобретатель, что был здесь давеча, и сам великий астроном. Скромность не позволила ему поведать об этом, а ведь на его счету уже не одно грандиозное открытие… Впрочем, довольно. Я уверен, что моя дочь излечиться, а ты узнаешь много нового о небесах благодаря моему подарку. Воцарилось недолгое молчание. - Скажи мне, я могу присутствовать при исполнении ритуала. - Сожалею, ваша светлость, но я должен быть один. - Что ж, тогда я удаляюсь. И через неделю жди меня снова. С добром или с немилостью. Рассмеявшись собственной шутке, барон покинул башню. - Где астроном, - поинтересовался он, заглянув внутрь кареты. - Уехал, ваша светлость, - был ответ кучера. – Сказал, что работа не ждёт, попросил свою лошадь у эскорта и умчался. - Тоже мне мудрецы, - хмыкнул барон и велел ехать в своё имение.
Настала ночь. Новорождённая и ещё безымянная, как этот мир, звезда сияла так, что остальные звёзды казались совсем тусклыми, а у всех предметов появлялись неясные тени. Звездочёт по длинной винтовой лестнице взошёл на дозорную площадку своей высокой башни. Несколько минут он переводил дух. А потом взглянул на звезду. «Я знаю, чьим именем назову тебя. Того астронома, что совершил великие открытия. Скромность говорит о его честности, а разум – о доброте. Вот только как же быть с опасностью, что ему не угрожает… Откуда мог знать старик в своём добровольном заточении, что пожилого изобретателя на узкой лесной тропе ждала засада. И что разбойники, уводя добытую лошадь, оставили несчастного умирать на земле. В последний раз вдохнул тяжёлый воздух великий астроном, но не слышал этого старый звездочёт, сжимавший в руке телескоп. - Открытия, - задумчиво сказал он и поднёс к глазам инструмент. Сердце старика внезапно сжало невидимой стальной дланью. Он едва мог сам дышать. Что же это? За привычными звёздами, что виделись действительно чётче, открылись десятки и сотни других искорок. Этого просто не могло быть! К чему же тогда ежедневный подсчёт? Нет, он не будет произносить имени астронома, невольно причинившего ему такую боль. Звездочёт пошатнулся, хватаясь за железный поручень. Его хватил удар, но он всё глядел на небо, обманувшее его. Простым глазом старик видел три тысячи двадцать одну звезду. Сколько же их всего? Десятки тысяч? Но ведь он не успеет пересчитать их все до рассвета… Опустившись на высокий табурет, последний звездочёт считал звезды. В последний раз в жизни. Того требовал старинный ритуал. А затем немевшими губами прошептал в небо, обращаясь к последней родившейся в этом мире звезде: - Я называю тебя… И вымолвил лишь одно слово. Своё имя.
Барон впал в дикую ярость. Дочь его скончалась в страшных мучениях, и теперь он ехал к башне во главе отряда рыцарей. Гнев затмил глаза дворянину – с собой он вёз флакон яда. Для звездочёта. Однако старика в башне не было. Лишь на каменном полу дозорной площадки лежал телескоп. Красное дерево футляра обезобразили вмятины. Осколки стекла рассыпались рядом, искрясь светом, отражённым от новой звезды. Они сами напоминали крохотные новые звёзды. Вдруг барон всё понял. Хищно оскалившись, он посмотрел на пронизывающее тяжёлые тучи светило. - Я знаю, где ты, звездочёт, - прошипел дворянин. – И клянусь всеми Богами мира, я доберусь до тебя. Я отомщу тебе! Сверкнула молния. Ослепительно ярким небесным деревом она выросла в рассветных сумерках, а через миг уже умерла, впившись изломанными лучами ветвей в вершину башни звездочётов. Рыцари, ожидавшие своего господина внизу, зажмурились. Начинался дождь, и скоро вода унесла вниз горстку пепла, что дымилась до этого рядом со сверкающими осколками стекла. Боги не любят, когда их именами дают неисполнимые клятвы. Башня словно радовалась косым копьям ливня, что впивались в неё. Звезда блистала сквозь буйство природы, озаряя белым светом вершину самой высокой башни в мире. До поры… |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 3 мая - День солнца У солнышка в гостях Словацкая сказка
Однажды большая туча занавесила небо. Солнце три дня не показывалось. Заскучали цыплята без солнечного света. - Куда это солнышко девалось? - говорят. - Нужно его поскорее на небо вернуть. - Где же вы его найдёте? - закудахтала наседка. - Разве вы знаете, где оно живёт? - Знать-то мы не знаем, а кого встретим, того спросим, - ответили цыплята. Собрала их наседка в дорогу. Дала мешочек и сумочку. В мешочке - зёрнышко, в сумочке - маковинка. Отправились цыплята. Шли, шли - и видят: в огороде, за кочаном капусты, сидит улитка. Сама большая, рогатая, а на спине хатка стоит. Остановились цыплята и спрашивают: - Улитка, улитка, не знаешь ли, где солнышко живёт? - Не знаю. Вон на плетне сорока сидит - может, она знает. А сорока ждать не стала, пока к ней цыплята подойдут. Подлетела к ним, затараторила, затрещала: - Цыплята, куда вы идёте? Куда вы, цыплята, идёте, куда? Отвечают цыплята: - Да вот солнышко скрылось. Три дня его на небе не было. Идём его искать. - И я пойду с вами! И я пойду с вами! И я пойду с вами! - А ты знаешь, где солнышко живёт? - Я-то не знаю, да, может, заяц знает: он по соседству, за межой, живёт, - затрещала сорока. Увидел заяц, что к нему гости идут, поправил шапку, вытер усы и пошире ворота распахнул. - Заяц, заяц, - запищали цыплята, затараторила сорока,- не знаешь ли, где солнышко живёт? Мы его ищем. - Я-то не знаю, а вот моя соседка, утка - та, наверно, знает: она около ручья, в камышах, живёт. Повёл заяц всех к ручью. А возле ручья утиный дом стоит, и челнок рядом привязан. - Эй, соседка, ты дома или нет? - крикнул заяц. - Дома, дома! - закрякала утка. - Всё никак не могу просохнуть - солнца-то три дня не было. - А мы как раз солнышко идём искать! - закричали ей в ответ цыплята, сорока и заяц. - Не знаешь ли, где оно живёт? - Я-то не знаю, а вот за ручьём, под дуплистым буком, ёж живёт - он должен знать. Они переправились на челноке через ручей и пошли ежа искать. А ёж сидел под буком и дремал. - Ёжик, ёжик,- хором закричали цыплята, сорока, заяц и утка,- ты не знаешь, где солнышко живёт? Три дня его не было на небе, уж не захворало ли? Подумал - подумал ёж да и говорит: - Как не знать! Знаю, где солнышко живёт. За буком - большая гора. На горе - большое облако. Над облаком - серебристый месяц, а там и до солнышка рукой подать! Взял ёж палку, нахлобучил шапку и зашагал впереди, всем дорогу показывать. Вот пришли они на макушку высокой горы. А там облако за вершину уцепилось и лежит-полёживает. Залезли на облако цыплята, сорока, заяц, утка и ёж, уселись, и полетело облако прямёхонько к месяцу в гости. - Месяц, месяц, - закричали ему цыплята, сорока, заяц, утка да ёж, - покажи нам, где солнышко живёт! Три дня его не было на небе, соскучились мы без него. Привёл их месяц прямо к воротам солнцева дома, а в доме темно, света нет: заспалось, видно, солнышко и просыпаться не хочет. Тут сорока затрещала, цыплята запищали, утка закрякала, заяц ушами захлопал, а ёж палочкой застучал: - Солнышко-вёдрышко, выгляни, высвети! - Кто тут под окошком кричит? - спросило солнышко. - Кто мне спать мешает? - Это мы, цыплята, да сорока, да заяц, да утка, да ёж. Пришли тебя будить - утро настало. - Ox, ox!.. - застонало солнышко. - Да как мне на небо выглянуть? Три дня меня тучи прятали, три Дня собой заслоняли, я теперь и заблестеть не смогу... Услыхал про это заяц - схватил ведро и давай воду таскать. Услыхала про это утка - давай солнце водой умывать. А сорока - полотенцем вытирать. А ёж давай колючей щетинкой начищать. А цыплята - те стали с солнышка соринки смахивать. Выглянуло солнце на небо, чистое, ясное да золотое. И всюду стало светло и тепло. Вышла погреться на солнышке и курица. Вышла, закудахтала, цыплят к себе подзывает. А цыплята тут как тут. По двору бегают, зёрна ищут, на солнышке греются. Кто не верит, пусть посмотрит: бегают по двору цыплята или нет? |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ На 5 мая в этом году приходится Православная Пасха Александр Куприн Инна (Рассказ бездомного человека)
Ах, этот Киев! Чудесный город, весь похожий на сдобную, славную попадью с маслеными глазами и красным ртом. Как мне забыть эти часы, когда, возбужденный теплым тополевым запахом весенней ночи, я ходил из церкви в церковь, не минуя единоверцев, греков и старообрядцев. Ах, красота женских лиц, освещаемых снизу живым огнем, этот блеск белых зубов, и прелесть улыбающихся нежных губ, и яркие острые блики в глазах, и тонкие пальчики, делающие восковые катышки. Точно со стороны, точно мальчишка, выключенный из игры, я видел, что всем беспричинно хотелось смеяться и приплясывать. И мотивы ирмосов были все такие древне-веселые: трам, трам, тра-ля-лям. И все смеялись: смеялись новой весне, воскресенью, цветам, радостям тела и духа. Один я походил на изгнанника, который смотрит сквозь заборную щелку, таясь от всех, на чужое веселое празднество. Ее звали Инна. Это потом, по расследованию отцов церкви, оказалось, что имена Инна, Пинна, Римма и Алла — вовсе не женские, а, наоборот, очень мужские имена. Тогда же она была для меня единственная, несравненная, обожаемая Инна. Три года назад мне казалось, что она питает ко мне взаимность. Но совсем неожиданно для меня мне было отказано от их дома. Отказано очень вежливо, без недоразумений и ссоры. Сделала это с грустным видом маменька, толстая дама, большая курительница и специалистка в преферансе. Я сам понял это так, что по моей молодости, скудному жалованью и отсутствию перспектив в будущем я никак уж не гожусь в женихи девушке, очень красивой, хорошо воспитанной и с порядочными средствами. Я покорился. Что же мне было делать? Не лезть же с объяснениями или насильственно втираться в дом, где оказался лишним? Но образ Инны застрял в моем сердце и не хотел уходить оттуда. Дешевых амуров я никогда не терпел. Должен признаться, что в первое время я все норовил попадать в те места, где она чаще всего бывала, чтобы хоть на секундочку увидать ее. Но однажды, когда на пристани знаменитого Прокопа она, окруженная веселой молодежью, садилась в лодку и мельком заметила меня, — я заметил, как недовольно, почти враждебно сдвинулись ее прелестные, союзные, разлетистые брови, с пушком на переносице. Тогда мне стыдно стало, что я ее преследую, вопреки ее желанию, и я перестал. Однако каждый раз на великую заутреню я в память наших прошлых Пасх приходил в ее любимую церковь — Десятинную, самую древнюю в Киеве, откопанную из старых развалин, и ждал на паперти ее выхода после обедни. Казалось мне, что здесь, среди нищих, я вне укора и презрения. Я ведь был тогда очень верующим и всегда умилялся над одним из пасхальных песнопений:
Воскресения день. И просветимся торжеством, И друг друга обымем.. Рцем, братие, И ненавидящим нас Простим...
Да! Еще издалека-издалека я видел, как она замечала меня сквозь толпу, но проходила она всегда мимо меня с опущенными ресницами. Что же? Не выпрашивать же мне было у нее пасхальный поцелуйчик? Хотя мнилось мне порою, что какая-то складка жалости трогала ее розовые уста. Так и в эту святую ночь, выждав время, стал я на Десятинной паперти, подождал и дождался. Встретились мы с ней глазами... Испугался я вдруг и как-то сам себе стал противен со своей назойливостью. Повернулся и пошел, куда глаза глядят. Взобрался я, помню, по длинной плитяной лестнице с широкими низкими ступенями на самый верх Владимирской горки, господствующей над всем городом, и уселся совсем близко около высокого и очень крутого обрыва, на скамье. У моих ног расстилался город. По двойным цепям газовых фонарей я видел, как улицы поднимались по соседним холмам и как вились вокруг них. Сияющие колокольни церквей казались необыкновенно легкими и точно воздушными. В самом низу, прямо подо мною, сине белела еще не тронувшаяся река с черневшимися на ней зловещими проталинами. Около реки, там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу: точно большая процессия с заниженными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила чуть ущербленная луна. В трепетном воздухе, в резких, глубоких тенях от домов и деревьев, в дрожащих переливах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность. Вдруг я услышал торопливые и легкие шаги. Обернулся — вижу, идет стройная женщина. «Ну, — думаю, — должно быть, любовное свидание, надо уходить», — и поднялся со скамейки. И вдруг слышу голос, от которого сердце мое сначала облилось кипятком, а потом запрыгало. Инна! — Постойте! Куда вы? — говорит она и немного задыхается. — Как вы скоро шагаете, я за вами бегу от самой Десятинной церкви. Но, во-первых, Христос воскресе. Я едва успел снять шляпу. Она трижды истово поцеловала меня, потом поцеловала еще в лоб и погладила руками мою щеку. — Сядем, — сказала она. — У меня времени совсем чуть-чуть. И так боюсь, что дома уже беспокоятся. А я хочу вам очень много сказать. Судите меня, но и простите. И вот передо мною предстала ужасная, подлейшая история, которая когда-либо происходила на свете. В ту самую пору, когда я еще был вхож в Иннин дом, где меня как будто бы охотно терпели, существовал у меня дружок, самый закадычный, — Федя. Мы даже долго жили в одной комнате. Радость, горе, кусок хлеба, бутылка пива — все пополам. Никаких секретов друг от друга. Ведь молодость тем и приятна, что в ней так отзывчива, бескорыстна и внимательна дружба, а кроме того, друг — он же и наперсник, и охотный слушатель всех твоих секретов и замыслов. Словом, с этим Федей я делился всеми милыми, сладкими тайнами, которые были связаны с Инной. Знал он все наши встречи, разговоры, очаровательные, многозначительные лишь для меня одного словечки, случайные долгие взоры и рукопожатия. Не скрывал я от него и нашей переписки: совершенно детские невинные записочки о дне пикника в Борщаговке или Китаеве, благодарность за цветы и ноты, приглашение в театр или в цирк. Все в этом роде. И вдруг Федя съезжает внезапно из наших меблирашек, а потом и вовсе исчезает с моих глаз... Я тогда совсем не обратил внимания на то, что вместе с его исчезновением пропали и Иннины записочки. Я думал тогда, что наша общая номерная прислуга, бабка Анфиса, глухая и полуслепая женщина, к тому же и весьма глупая, взяла и выкинула их как ненужные клочки в мусор; я даже и в мусоре рылся, но напрасно. И вот вдруг Инна получает письмо, не написанное, а составленное из вырезанных из газеты печатных букв. Подпись же внизу, чернилами, безукоризненно похожа на мою. Федя, надо вам сказать, очень часто, от нечего делать, шутя, подделывал мое факсимиле. Текст письма был самый омерзительный. Смесь низкого писарского остроумия, грязных намеков и нецензурных слов. Все это в духе отвратительного издевательства над Инной, над нашими чувствами и над всей ее семьей. Но подпись, подпись была совершенно моя. А кроме того, все письмо насквозь было основано на тех фактах и словечках, которые при всей их детской чистоте и невинности были известны лишь Инне и мне, вплоть до чисел и дней. Зачем он это сделал — понять не могу. Просто из дикого желания сделать человеку беспричинную пакость. В ту-то пору мне и показали на дверь. Кого я мог тогда винить? Федя же оказался совсем негодяем, давним преступником, специалистом по шантажам и подлогам. Он успел попасть в руки правосудия, сначала в Одессе, а потом, недавно, в Киеве. Все его бумаги перешли к судебному следователю. Среди них сохранились не только Иннины записочки, но и Федькины дневники. Это странно, но давно известно: профессиональные преступники весьма часто ведут свои дневники-мемуары, которые потом их же уличают. Это своего рода болезнь, вроде мании величия. Следователь, друг семьи, изъял из следствия все, что касалось Инны, ибо в остальном материале нашлось достаточно данных, чтобы закатать Федьку на три года в тюрьму. Однако из его дневников можно было с ясностью установить его авторство в псевдонимом письме, подписанном моим именем. Обо всем этом рассказала мне Инна. Я слушал ее, сгорбившись на скамейке, а она участливо вытирала мне платком слезы, катившиеся по моему лицу, я же целовал ее руки. — А вот теперь, — продолжала она, — я невеста Ивана Кирилловича, этого самого следователя. Я не скрою, я любила вас немного, но три года, целых три года обиды, огорчения и недоверия, испепелили во мне все, что было у меня к вам хорошего и доброго. Но никогда, слышите ли, никогда я в жизни не забуду того, как вы были мне верны, несмотря на не заслуженное вами страдание. Дорогой мой, обнимите меня крепко, как брат. И давайте на всю жизнь останемся братом и сестрой. Мы поцеловались еще раз. — Не трудитесь провожать меня, — сказала она. — И помните: во всяком горе, нужде, несчастье, болезни — мы самые близкие родные. Она ушла. Я долго еще сидел на Владимирской горке. Душа моя была ясна и спокойна. Всемогущая судьба прошла надо мною. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 9 мая - День Победы Булат Окуджава Уроки музыки
Нынче все это по прошествии сорока с лишним лет представляется столь отдаленным, почти придуманным, что я теряю реальное ощущение времени. Да и самого себя вижу почти условно: так, некто нереальный семнадцатилетний, с тоненькой шейкой, в блеклых обмотках на кривых ножках, погруженный в шинель с чужого плеча; почему-то с карабином; почему-то делающий не то, что надо, и потому виноватый перед сержантом Ланцовым. Сержант Ланцов — старик тридцати лет, кадровый, сколоченный из мореного дуба, глядящий на меня с подозрением и болью, учитель жизни и минометного искусства, которое есть первейшее для нас, то, что вы городские и шибко грамотные, это вы забудьте, так и так, и разотрите... это вам не географией баловаться... Как стоишь! Встать, сесть!.. Смирна! А ну подравняйсь!.. И все в таком роде. И на каждые три слова два несловарных, или наоборот, в зависимости от обстоятельств... Выше ногу! Шире шаг! Так и так!.. Акаджав, убрать живот! (У меня, оказывается, и живот есть. А я думал — только позвоночник.) Чего лыбитесь? На губу захотел, так и так?.. Стой! Вольно... Теперь глядите: это чего у меня? Какая ж это бомба? Ты куда приехал, так и так? В минометную... Значит, чего у меня в руках? А сколько она весит? Весит шестнадцать килограмм, понятно? Осколочного действия, понятно? Засаживаем в ствол, а руки сбрасываем, понятно? Впереди у нее чего? Кто знает?.. Эх вы, грамотные, так и так... Впереди у нее менбрана, понятно? Широкоскулое, губастое лицо учителя вызывает непродолжительный шок. От хриплого баритончика холодеет спина. Но мы привыкаем стремительно, вот уже нестрашно: в глазах, в голосе, в каждом жесте — вдохновение фанатика, хотя словарь все еще оскорбляет. Впрочем, и это ненадолго... — Я вам поулыбаюсь, так и так!.. Менбрана очень чувствительна: легкое прикосновение к предмету приводит ее в действие, и мина разрывается... Это он произносит строго по инструкции, изысканно и гладко. — Она как полоснет осколками, и проищи, так и так, понятно? — А может, все-таки мембрана? — говорит кто-то из смельчаков. — Разговорчики! — кричит Ланцов. — Акаджав, повторите. — Разговорчики, — повторяю я. Все смеются в ладошки. Но перед ним долго не посмеешься. Тишина. Осень. Мелкий дождь. В груди сержанта накапливается знакомый мотив, уже звучат отдельные нотки. — Повторите про мину, — говорит он угрожающе. — Если прикоснуться к мембране, она как полоснет, и прощай... Уже год идет война, а он на фронте так и не побывал. Продолжает свою кадровую службу в заштатном учебном минометном дивизионе, обучает новобранцев, выстраивает их в маршевые роты, а сам не удостаивается и считает себя несправедливо обиженным. Вот почему противоречивые чувства разрывают ему сердце: с одной стороны, он, понимаешь, готовит пополнение, кадры. Всю душу, понимаешь, вкладывает. Не может сдержать слез, когда провожает очередных маршевиков, им вытесанных из ничего, ну совсем, так и так, из ничего. А с другой стороны, вот они, понимаешь, уходят туда, на передовую, понимаешь, становятся героями, а он, понимаешь, здесь припухает, так и так... — Товарищ сержант, — робко спрашиваю я из строя, — значит, вы сами на фронте-то не были? — Отставить разговорчики! — кричит он. Во время перекура мы сидим на бревнах. Он в центре. Он рассказывает, скольких он уже обучил и как они там сражаются. — А что же это вас-то никак не пошлют на передовую? — спрашивает кто-нибудь. — А кто ж его знает, — говорит он без охоты. — Может, позабыли, а может, здесь я нужен... А ну кончай перекур! Становись! — И знакомая музыка разливается по учебному полю. — Бегом марш!.. По-пластунски! Давай-давай! Брюхом к земле, так и так! Акаджав, отставить карачки, на брюхе ползи, так и так! Грязно?.. А на передовой чисто?! Что значит устал, так и так! Будешь ползти, покуда весь пар не выпустишь... Грязно ему, понимаешь... Встать! Бегом!.. И сам бежит с угрожающим ликом, и сам бросается брюхом в грязь и ползет с ожесточением. — У меня не сачковать, так и так! Тяжело в ученье — легко в бою, так твою!.. Неможешь — научим, не хочешь — заставим!.. Окопаться! И мы вгрызаемся в грязь, в камни, в корни, и воздух насыщен сопением, звоном, чавканьем, выкриками сержанта, пронзительной музыкой, мечущейся над нами от зари до зари. Трудно сейчас представить, как я все это проделывал, как не отвалились руки, ноги. Я ли то был, тот кривоногий солдатик с оттопыренными ушами, выброшенный из домашнего убогого тепла прямо в ожесточенные пятерни сержанта Ланцова? Я ли то был? И по вечерам, прежде чем грянуться в полуобморочный сон, не до меня ли доносились вязкие нашептывания сержанта из дальнего угла: «Смерть чего хочет? А того, понимаешь, чтобы тебя перехитрить... Ты от нее беги, а она, так и так, быстрая, сука... Значит, ты не беги, а зарывайся. У нее — пуля, а у тебя чего? Лопата. У ней — штык, а у тебя чего? Карабин, понимаешь, заряженный. Вот так оно и идет: она пулю, а ты лопату, она штык, а ты пулю, она тут как тут, а у тебя окопчик, так и так... Ее перехитрить надо… Чего? За какой еще пенек? Эх ты, грамотный... за пенек... А воевать кто будет?.. Чего? А ежели доберется до тебя, стало быть, перехитрила...» Я уже смутно вспоминаю это свое прошлое. Я погружен в горькую оглушающую музыку, встаю под нее, бегу, вылизываю котелок, ползу по грязи, таскаю мины, выслушиваю оскорбления... И все под нее. Мы иногда сопротивляемся. Мы иногда пытаемся примирить эти грязь и ожесточение, эти визгливые, дикие мелодии с иными нотами, еще трепещущими в наших душах. Дрожь обиды еще сотрясает наши тела. В поисках гармонии мы выглядим нелепо. Но ведь мы маленькие люди с тонкими шейками и детским опытом, и поспешные мысли о расплате с обидчиком гудят в наших головах: отомстить, ответить, оскорбительно глянуть в голубые прищуренные глаза, усмехнуться, не опускать головы, помнить, что ты — центр мироздания, царь природы, пусть в шинели с чужого плеча, пусть на кривых ножках в блеклых обмотках... Мы идем по пустынному, развороченному полю. Пахнет супом с вязкими ржаными галушками и единственным лавровым листком на всю батарею. И словно в небесах возникает хрипловатое стремительное: «за!» — затем с понижением медленно, словно затаившееся в засаде: «пе-е-е», — и внезапно, как выстрел: «вай!..» — Вай, вай, вай! — выкрикивает кто-то из кавказцев. Он ставит нас по стойке «смирно», чтобы до нас, понимаешь, дошло наконец, что это не песенки какие-то там, хочу — пою, хочу — не пою, в школе, понимаешь, там под всякие патефоны, так и так!.. «Кругом! Шагом марш!.. — И прочь от столовой, от клейких вожделенных галушек... — Это вам песня, так и так! Боевое задание... Выше головы! Будете у меня ходить хоть до отбоя, так и так, и после отбоя... А кто-то у меня два наряда вне очереди получит!.. Кругом! За-пе-е-е-е-вай!» И мы поем, черт бы его побрал. После обеда мы сидим у столовой в ожидании построения. Дымок от самокруток вьется в сентябрьское небо. Сержант Ланцов, раскованный и вальяжный, треплется с другими сержантами. И вдруг все преображается. Лейтенант Федоринин, командир нашей батареи, аккуратно ступая по лужам, подходит к нам... Это особый разговор. Лейтенант — фигура малопонятная, почти таинственная. Мы его видим редко. Ему слегка за двадцать. Он строен и кудряв. И вздернутый носик, и розовые щеки, и тонкие губы, и сияющие хромовые сапоги, и два кубика в петлицах — все это наш командир батареи. Он какой-то другой, загадочный, из иных сфер, легко и плавно опустившийся на эту грязную землю... У меня холодеет спина. — Батарея! — кричит сержант. — Вольно... — снисходит командир батареи. Лейтенант Федоринин — это почти божество, и кубики на его петлицах кажутся мне ромбами. Что уж говорить о командире дивизиона капитане Бовшике? Его я видел однажды, да и то издали, а если бы вблизи — грянулся бы, наверное, бездыханным. По сержантовым скулам разливаются темень и свет, и скорбь заволакивает его голубые глаза, и хриплый его баритончик доверительно и неоднократно упоминает мое имя в том смысле, что Акаджав, понимаешь, самый нерадивый — и окапывается медленно, и на турнике подтягивается всего два раза, будто девка... «Два раза? — усмехается лейтенант. — Ну и ну...» И когда все ползут по-пластунски, он норовит на карачках... «На карачках?» — не верит лейтенант... «Мы все, товарищ лейтенант, бегим цепью, а Акаджав не бегит. Гляжу, кто, понимаешь, отстающий? Обратно Акаджав! Все, понимаешь, стараются, сил не щадят, а Акаджав с прохладцей... Я, товарищ лейтенант, с им в разведку не пойду...» «Акаджав, Акаджав, ты, конечно, не прав», — думаю я обреченно. Лейтенант Федоринин прищуривается в меня: — Ну, Окуджава, что делать будем? Я молчу. Все, что было сказано обо мне, наверное, правда. Это как песня, из которой слова не выкинешь. Но что-то душит меня, мешает мне ответить. Я хочу вздернуть голову, но она клонится. Я хочу открыто глядеть лейтенанту в лицо. Но вижу носки своих перепачканных грязью ботинок. Это грязь войны, грязь моей судьбы. Разве она не укор вам, мои командиры? Разве ее недостаточно, чтобы выглядеть в ваших глазах достойным хотя бы сочувствия? — А почему обувь грязная? — спрашивает лейтенант. — Вот, понимаешь... — бормочет Ланцов. Два наряда вне очереди! — говорит лейтенант звонко улыбаясь. — Сержант, через недельку доложите, какие успехи... Через недельку я подтягиваюсь пять раз; ползя по-пластунски, словно ящерица, сливаюсь с грязью, задыхаюсь, выплевывая землю, подношу мины, готов умереть по мановению сержантова пальца... Я уж не говорю о том, как с помощью травы и тавота довожу до блеска свои ботинки... Где-то в глубине души теплится надежда, что лейтенант Федоринин видит все это, скрываясь за кустами, и одобрительно кивает кудрявой головой... Сержант окапывается со мною рядом, расплескивая вокруг хриплые проклятия немцам, их танкам, их орудиям, их матерям и женам, и Гитлеру, и... так вашу растак! Врешь, не возьмешь!.. Ланцова не возьмешь... Ланцов вас таких сам в душу... Нате, гады! А вот еще... И так, и так!.. Я заворожен его откровениями и потому останавливаюсь и слушаю этот мотив, который с каждым днем становится мне понятнее. «Акаджав, опять сачкуете! Ройте глубже, так и так!» — и смотрит на меня почти с омерзением. Вечером, за десять минут до отбоя, я тянусь перед лейтенантом из последних сил. Я уверен в том, что на этот раз все у меня в ажуре: я был скор, ловок и красив: я ползал так, что вдавил грудную клетку; я окапывался молниеносно (пусть этот окопчик станет могилой вражескому солдату); я без запинки ответил устав; разобрал и собрал затвор карабина; по тревоге выбежал чуть ли не самый первый... остальные там чухались, а я уже выбежал... — Когда окапывались, товарищ лейтенант, он, понимаешь, остановился и глядит, будто спит... Тут, понимаешь, каждая минута дорога... — Рассеянность, товарищ Окуджава, — говорит лейтенант, — это бойца не красит... — Это не рассеянность, — говорю я с отчаянием. — Это сосредоточенность... Впрочем, не берусь утверждать, что именно эту фразу я произнес тогда: очень может быть, что попросту украл ее из фильма Владимира Мотыля, в котором незабвенный Олег Даль произнес ее с подкупающим очарованием. Не помню. Но что-то такое я из себя выдавил, пользуясь правом царя природы и еще подогреваемый едва слышной музыкой домашнего тепла, до которой, кроме меня, уже никому не было дела. В два этажа нары из сосновых досок — пристанище нашей учебной батареи. В самом конце — топчан сержанта, отгороженный от нас брезентовым пологом. У него там свой фанерный сундучок, в котором драгоценности и тайны, и он их перебирает с любовью, когда удается на несколько минут избавиться от нас перед отбоем... «Личное время, понимаешь: уставчик подзубрить, письма накатать... Мне писать некому: моя деревня под немцем. Ты, Акаджав, чего стоишь по стойке «смирно»? Садись... Личное время, понимаешь...» Он на меня не смотрит, роется в сундучке, вынимает открытку, рукавом с нее стирает пыль... «Я ведь тебя зачем позвал? Хочу, понимаешь, спросить: как дальше будем? Так все и будем отставать? Мало я тебя гонял?..» «Вполне достаточно...» — говорю я. «Могу и больше... — Скулы у него начинают двигаться, но смотрит он в сундучок... — Знаешь, как могу? Весь пар, так и так, выпущу... И не таких ломал. Знаешь, какие тут были? Уж они такие городские, такие грамотные, такие все из себя гордые... Ладно, так и так, я вам поскалюсь... А теперя они с передовой знаешь чего пишут? Спасибо, мол, сержант, за науку, очень пригодилась, понимаешь...» «И я напишу», — говорю я... «От тебя дождешься, как же...» И вдруг кричит: «Опять ботинки нечищеные! Вы у меня поразговаривайте! Чтоб начистить!.. Вот я сейчас, так и так, карабин проверю... Ну ежели, понимаешь, что не так, так и так, будете, понимаешь, до утра у меня вертеться... Крууу-гом!..» Мне снится сон. —Товарищ сержант, — спрашиваю я, — почему вы меня все время оскорбляете? — Это вы меня оскорбляете своим внешним видом, — говорит он, — своими тонкими ручками, усмешкой, которая должна меня унизить. — Это вы унижаете мое достоинство, — говорю я. — Меня оскорбляет ваше наплевательское отношение к нашему общему делу, — говорит он. — Вы все время коверкаете мою фамилию, — говорю я.- — Пытался вызубрить, — вздыхает он, — ничего не получилось. Я буду называть вас товарищ боец, и по уставу, и необидно. Согласны?.. Это, видимо, так преломился подслушанный мной разговор. Случайно долетело: «Что это вы фамилию его коверкаете?» «Да я, товарищ лейтенант, замучился. Заучивал, заучивал, понимаешь...» «Ну-ка, повторите, — смеется лейтенант Федоринин, — ну-ка...» «Акаджав» «О-куд-жа-ва, — диктует лейтенант, — повторите...» «А-кааад-жав», — старательно выговаривает Ланцов. «Н-да, — говорит лейтенант и внезапно кричит: — К завтрашнему чтобы выучить, так и так! Глядите у меня!..» Кто-то говорит: «Снег пошел!» Снег идет. В казарме холодно, сыро... Холодно ему, понимаешь! Телят в холоде держать надо — здоровше будут. Холодно... А на передовой, так и так, тепло? Наконец внезапно наступает это самое утро, утро новой жизни или подведения итогов, уж и не знаю, как его назвать. Слышится привычная труба и истошный вопль Ланцова: «Батарея, подъем!» Все происходит мгновенно: кальсоны, галифе, ботинки... Выбегаю в темень, в дождь, в снег... «А ну, пошевеливайся!..» Тяжелый топот ног: сначала с грохотом по тайной надобности, затем на плац и растягиваемся в несколько рядов. Мощный тугой обнаженный торс сержанта перед нами: «Делай и раз, два, три, и раз, два, три!» Мне жарко, снежинки тают на плечах и спине. Бегу со всеми, не отставая, подтягиваюсь на турнике, выгибаюсь назад — вперед... «Кому холодно?» — кричит Ланцов. «Никому!» — кричит кто-то. «Молодцы!.. Бегом! Стой! Шагом марш!.. Разойдись!..» Умываюсь ледяной водой, и от моего тщедушного тела исходит пар, и сквозь этот пар мне видится моя новая жизнь. Чем же она замечательна? Она замечательна тем, что холод меня отныне не берет, и расстояния мне не страшны, и вырыть укрытие для миномета мне ничего не стоит. Заканчиваю копать, подбиваю стеночки — пульс нормальный. Где же вы, мои недавние усталость и отчаяние? И тяжелая звонкая непечатная дробь сержантовых претензий, не причиняя вреда, отскакивает от меня, как холодный дождь от дубленой кожи. Все глуше музыка души, все звонче музыка атаки... И вот наконец сержант Ланцов подзывает меня, и я готовлюсь к очередной порции его неудовольствия, а он говорит: — Акаджава, возьмите этих, погоняйте... Передо мной — десять стариков лет по тридцать пять. Неловкие, сутулые, напряженные. Полусолдаты. Сегодня прибыло пополнение из запасного полка. — Акаджава, — говорит сержант, — погоняйте их строевым, понимаешь, как следует. Вон они, понимаешь, сонные какие... Чтоб у меня, так и так, весело глядели!.. Это им не запасная богадельня... До меня не сразу доходит. Чему же я могу научить их, я — самый несмышленый, самый нерадивый, с тонкими городскими ручками, с тонкими кривыми ножками, закрученными в обмотки?.. Уж не смеется ли сержант Ланцов, не мстит ли мне за жалкие попытки отбиться от его неприязни? Но сержант Ланцов на плацу смеяться не умеет. Значит, это всерьез, и я действительно кажусь ему достойным этого великого назначения? «Смирна! — командую сдавленным голосом. — Шаго-о-ом марш!» И веду понурую десятку в дальний конец плаца. Этот плац, занесенный рыхлым, тающим снегом, кажется мне тесным и убогим с высоты моего непомерного роста. И плац, и лесок на краю, и сержант Ланцов, удаляющийся к казарме, и десять перезрелых моих учеников — все видится маленьким и призрачным, сливается там, внизу, у меня под ногами, и припадает к моим гигантским ботинкам. Все замерло в ожидании. Мои запасники жмутся друг к другу. На них нелепые, не по росту шинели, выцветшие и пятнистые. Они не знают, куда им девать руки. Лица посинели от ветра. У одного из них на синем лице — красный увесистый нос. Этот постарше остальных: ему вполне сорок. — Холодно? — спрашиваю по-отечески. — Да уж не жарко, — говорит один из них. — Сейчас бы в самый раз на печку, — говорит другой. Тот, с красным носом, молчит. Он уставился на меня маленькими темными глазками, то ли с мольбой, то ли с укором. Он пританцовывает на месте, и его синие губы растянуты в подобие улыбки. — Значит, холодно? — спрашиваю я. — А на передовой не холодно?.. Как это было давно! Я уже не помню, какой у меня, семнадцатилетнего, был тогда голос. Наверное, тенорок. Они насторожились при упоминании о передовой, так, слегка, но покорно ждали команду. Снисходительные взрослые перед воинственным петушком: ладно, давай, мальчик, поиграем, если тебе охота... Сейчас я поиграю... Вы у меня наиграетесь... И я кричу ликующим тенорком: — Смирна! Что-то обрывается у меня в горле от напряжения, какая-то штучка встает поперек. Они замирают. Все отвратительно, не по-военному. — Убрать животы! Грудь вперед! Вы что, понимаешь, игрушки играть? Мать, мать! — кричу я почему-то хриплым баритоном. — Это вам что, понимаешь, за супом очередь? Смирна! Напра-а-а-а-а-ва! Бего-о-о-о-ом марш! — И бегу рядом с ними. Я бегу легко: для меня это забава, они — грузно, посапывают. — Подтянись! — кричу тому, с красным носом, из-за него теряется строгая линия бегущей цепочки. — Кому сказал подтянуться! Он торопится и при этом помогает себе руками, будто продирается сквозь толпу. Они думают — баловство. Сейчас они узнают, что значит наша минометная батарея. У нас на батарее... мы на нашей батарее... — Раз-два, раз-два, раз-два!.. Стой! Шаго-о-ом марш! Они идут, отдуваясь, отплевываясь. Я слежу за тем, с красным носом, он украдкой поглядывает на меня: ждет одобрения? Сутулый, в грязных ботинках, пожилой обозник... — Строевым! Они пытаются идти строевым, цари природы!.. — Отставить! Кто же так строевым ходит? Вот как надо. Смотреть всем! Нога идет так, понимаешь, так — так, так — так, всей ступней, тяни носок, так и так, чтоб земля дрожала, как один, понимаешь!.. Это вам не на прогулочку по переулочку! Рав-няйсь! Смирна! Шаго-о-ом марш! Они идут опять не так, опять не так. Не так, так и так! Ладно, сейчас увидим. Я нахожу место на плацу, самое истоптанное, где мокрый снег перемешивается с грязью. — Ложись! Они медленно, с ужасом поглядывая на меня, опускаются в это месиво. — По-пластунски, марш! Они ползут, подрыгивая ногами, выгибая спины. — Брюхом к земле, так и так! Отставить карачки, на брюхе ползти! Грязно? А на передовой чисто? Что значит устали, так и так! Будете ползти, покуда весь пар не выйдет... Грязно им, понимаешь! Быстрей, быстрей!.. Встать! Бегом! — И сам бегу рядом... — У меня не сачковать, так итак!.. Тяжело в ученье — легко в бою, так твою!.. Не можешь — научим, не хочешь — заставим! Стой! Строевым! Выше голову!.. А тот, с красным носом, совсем не тянет... И тут я почему-то вспоминаю своего погибшего отца, которому сейчас тоже было бы сорок. Но мой отец был строен, и жилист, и ловок, и красив, хотя на холоде и у него нос краснел, но он в любой мороз ходил с открытой грудью, хоть и кавказец, и смеялся, если его уговаривали прикрыть горло шарфом... Мой отец всегда... У моего отца все было с иголочки... Сапоги у него всегда сверкали... У нас на батарее... Мы на нашей батарее... Наша батарея... А может быть, лейтенант Федоринин в эту самую минуту наблюдает за мной, думаю я, пылая, и его круглое лицо еще круглее от улыбки, и он говорит Ланцову: «Вам, сержант, понадобилось почти два месяца на подготовку новичков, а Окуджава... вы только глядите, поглядите-ка...» «Конечно, — думаю я, — сначала им тяжело и обидно, зато после вы же меня, понимаешь, сами благодарить будете. Это сначала, понимаешь, непривычно, а потом...» — Отделение, стой! Вольно! Можно покурить... У края плаца лежит бревно, и они усаживаются и закуривают. Этот, с красным носом, вытянул длинные несуразные ноги, отдувается, на ржавой шинели грязь, ботинки черт знает в чем. — Отставить перекур! Они бросают свои самокрутки, тяжело поднимаются. Слишком тяжело! — Быстро вставать, так и так! На рынок собрались? Хочу — пойду, хочу — нет?.. А ну сесть! Встать! Сесть! Встать — сесть! Встать — сесть!... Встать!.. У нас на батарее, понимаешь... Привести себя в порядок, чтобы, понимаешь, выглядеть бойцами... И сам же первый начинаю чистить перышки. Они отряхивают друг друга, тяжело дышат, тихо смеются... Этот, с красным носом, все-таки похож на моего отца, то есть совсем не похож, но что-то такое... Отец мой был ловкий, он быстро бы все почистил, а этот... — Вот так надо, — говорю я, — вот так, — и помогаю ему соскрести грязь с рукава шинели. И в ответ до меня доносится еле слышное, неловкое, тягучее, как мед: — Да что вы, товарищ командир, сам управлюсь, ничего, ничего... «Командир!» — Да какой же я командир, — говорю я, — такой же солдат... — Голос командирский, — говорит кто-то. Я хочу сказать, что это не мой голос, но эти разговорчики, всякая эта болтовня, возишься тут с ними, понимаешь... — Можно закурить. Они снова закуривают. —Устали? — спрашиваю. — Ничего, здоровее будете. Они тихо смеются. — А вы, — говорю этому, с красным носом, — что-то отстаете, придется дополнительно побегать... —Научимся, — отвечает тихо, — с непривычки тяжело... — А на передовой легко? — спрашиваю я. — Там, понимаешь, немец разговаривать не будет: легко — тяжело. Там давай-давай, поворачивайся. А на печке потом, понимаешь, лежать будем. Верно я говорю? — Верно, — отвечают нестройным хором. Я присаживаюсь рядом. Я тоже устал, черт его подери. И из меня словно пар выходит и растворяется в сером небе. Сейчас за давностью лет, кажется, и не скажешь, о чем они тихо переговариваются, посасывая самокрутки, поплевывая в снежное крошево, но догадаться нетрудно. Вымысел мой доносит тихий шепоток, из которого являются на свет то дом, то окно, то женские глаза, то детская ручка, то праздничные пол-литра, то черная неизвестность, то вздох отчаяния, то шорох пожелтевшего письма... Если лейтенант Федоринин тайком понаблюдал за моей работой — назначит меня командиром отделения, и тогда прощай Ланцов в конце концов. И на перекуре усядемся мы с ним рядом, и он скажет: «А твои-то ничего, понимаешь... Я гляжу: они ничего, дело знают». «А твои?» — спрошу я. «Мои совсем никуда, — вздохнет он, — да я их, так и так, еще прижму. Это им, понимаешь, не игрушки». «Правильно, — скажу я, — им потачки давать нельзя». И спрошу: «А тебе из дому пишут?» «Нет, — скажет он, — некому. Мои все под немцем, растак-перетак!..» И прочая галиматья. А они сидят, покуривают. Вот сейчас я скомандую хриплым баритоном, и все это рыхлое, неловкое, далекое от войны натянется, напружинится, зашагает, поползет, побежит... Но шевелиться не хочется. Слышится ровный шепот все о том же и о том же, о чем и сам я шепчу, засыпая по вечерам, о чем и сам думаю, стоя навытяжку перед сержантом, и чем он громче, тем слаще мой шепот... «Стол... диван... фотография мамы... первая трава у порога... яйцо всмятку... бабушкины руки... вечерний свет... девочка, которая не откликается... троллейбус...» Тихая музыка невозвратного. А тот, с красным носом, молчит. Слушает соседа, кивает, улыбается. Что-то в его улыбке растерянное, мягкое, грустное. У него трое детей. Три девочки. Старшая — моя ровесница. Неужели и у нее такой же нос?.. Меня словно и нет. Так, все между собой. Десять случайных братьев, прекрасных и обогретых воспоминаниями. — Кончай перекур, — устало говорю я своим обычным тенорком. — Засиделись. — И то правда, — улыбается тот, с красным носом. Они медленно поднимаются с бревна. Тепло уходит. Разглядывают меня с удивлением, словно впервые. И тот, с красным носом, похожий на моего отца, спрашивает меня: — А тебе, сынок, из дому пишут? А мне никто не пишет, некому. — Пишут, пишут, — говорю я, отворачиваясь, — все хорошо. — И командирское во мне готовится выкрикнуть:«Отставить разговорчики! Равняйсь!..» — но я говорю громко, потому что они все ведь рядом, вот здесь: — Подравняйтесь... шагом марш... — И мы движемся. — Все в ногу, а то сержант даст нам прикурить. Наступает и еще один прекрасный день. И вот мы, чистенькие, из бани, в новой форме, поскрипывающие, уже нездешние, стоим на платформе у эшелона, чтобы через несколько минут отправиться уже как маршевая к передовой. Лейтенант Федоринин и сержант Ланцов провожают нас. Впереди — прекрасная неизвестность. Лейтенант улыбается. Мы теперь не его. Сержант грустен. Он опять остается. Вся надежда на наше геройство. — А вы-то как же, товарищ сержант? — спрашиваю я без страха, как приятеля. — А вот так же, понимаешь, — говорит он и краснеет, — опять здесь припухать, раз-два, встать — сесть... таки так... — А что, Окуджава, — говорит лейтенант посмеиваясь, — дадим вам сержантские лычки да оставим здесь трудиться, а? Хорошо ведь? — Ну уж нет, спасибо, — смеюсь я, — уж я лучше туда. Доносится свисток паровоза. Пора. — Слышь, Акаджава, — говорит сержант, — ты, понимаешь, может, напишешь, как там чего? В голубых его глазах — тоска, скулы резче, обветренные губы сжаты в две тонкие бледные полоски. — Напишу, напишу, — тороплюсь я, — обязательно, про всех напишу... Конечно, я напишу, чтобы хоть от меня приходили к нему редкие смятые треугольники. Пусть читает. — Ты не сердись, ежели чего, понимаешь, не так, сам понимаешь... — Понимаю, понимаю, — говорю я, — чего там... Мне грустно, мне жаль его. Я жалею сержанта Ланцова. У меня никаких обид. Что вы, какие там обиды? Мы ведь не на уроке географии, так и так... Но я почему-то счастлив, что он не отправляется с нами. Пусть потом, сам, без нас, сам по себе. Я знаю, что он будет там незаменимым и доблестным, но пусть без меня, без меня... Прошло более сорока с лишним лет. Срок, понимаешь! Ни одной фамилии не помню, кроме этих двух. Где все — не знаю. Живы ли, погибли ли? Никто не знал, кому что предназначено, да и сейчас никто не знает, почему одним повезло, а другим нет. Я хочу, чтобы все остались в живых, все, но больше всего чтобы тот, с красным носом, похожий отдаленно на моего отца, чтобы он вернулся к своим девочкам, черт бы его побрал!
Ноябрь, 1985
|
| Автор: Chanda | Джон Толкиен Лист работы Мелкина
Жил-был однажды маленький человек по имени Мелкин, которому предстояло совершить дальнее путешествие. Ехать он не хотел, да и вообще вся эта история была ему не по душе. Но деваться было некуда. Со сборами он, однако, не спешил. Мелкин был художником. Правда, больших высот он не достиг, отчасти потому, что у него было много других дел. Выполнял он их вполне сносно, когда не удавалось отвертеться. А отвертеться удавалось очень уж редко: законы в его стране держали народ в строгости. Были и другие помехи. Во-первых, он иногда предавался праздности – попросту говоря, ничего не делал. А во-вторых, был он по-своему мягкосердечным. Время от времени помогал по мелочам своему соседу, хромоногому мистеру Прихотту. Случалось, приходили к нему и люди, которые жили подальше, просили о помощи – он и им не отказывал. А затем Мелкин вспоминал о путешествии и начинал без особого рвения упаковывать вещи. Тут уж времени на живопись оставалось совсем мало. У Мелкина было несколько начатых картин, но чересчур громоздких, так что со своими невеликими способностями он вряд ли мог их закончить. Он принадлежал к тем художникам, которые, например, листья пишут лучше, чем деревья. Мелкин, бывало, подолгу работал над одним листом, стараясь запечатлеть форму и блеск, и шелковистость, и сверкающую каплю росы, катящуюся по желобку. И все же ему хотелось изобразить целое дерево, чтобы все листья были одинаковыми и вместе с тем разными. Особенно не давала ему покоя одна картина. Началось все с листа, трепещущего на ветру, – но лист висел на ветке, а там появился и ствол – и дерево стало расти и цепляться за землю фантастически-причудливыми корнями. Прилетали и садились на сучья странные птицы – ими тоже следовало заняться. А потом вокруг дерева начал разворачиваться пейзаж. Окрестности поросли лесом, вдали виднелись горы, припорошенные снегом. Мелкин и думать забыл про остальные картины; а иные он просто взял и приставил с боков к большой картине с деревом и горами. Получился такой громадный холст, что пришлось Мелкину раздобыть стремянку. Картина помещалась в специально выстроенном высоком сарае – раньше он на этом месте сажал картошку. Мелкину никак не удавалось избавиться от своего добросердечия. «характера у меня не хватает»,– говорил он себе (а подразумевал: «Вот бы не заниматься чужими заботами!»). Но тут как раз вышло так, что его долго никто серьезно не тревожил. «Будь что будет, но уж эту картину, мою настоящую картину, я обязательно допишу, а потом, так и быть, отправлюсь в путешествие, пропади оно пропадом»,– думал Мелкин. Ему было ясно, что нельзя без конца откладывать отъезд. Увеличивать картину еще больше не было никакой возможности – настало время ее заканчивать. Как-то раз Мелкин, отойдя подальше, долго озирал свою работу. Честно говоря, картина его совершенно не удовлетворяла и все-таки казалась очень красивой – единственной по-настоящему прекрасной картиной в мире. В эту минуту Мелкину больше всего было бы по душе, если бы в сарай вошел его двойник, хлопнул Мелкина по плечу и сказал бы: «Великолепно! Вот это мастер! Замысел совершенно ясен. Продолжай работать, а об остальном не тревожься. Мы устроим тебе государственный пенсион, так что будь спокоен». Увы, государственного пенсиона не было. И одно Мелкину было ясно: чтобы довести дело до конца, надо бросить все дела, забыть обо всем и работать, упорно работать. Он закатал рукава и несколько дней пытался ни на что не обращать внимания. Но тут, как на грех, на него свалилась целая куча забот. Вдруг оказалось, что дом требует ремонта; понадобилось ехать в город и сидеть в суде (Мелкин был присяжным); мистер Прихотт слег – приступ подагры; и, в довершение всего, гости сыпались как из рога изобилия. Была весна, и они не прочь были бесплатно пообедать на природе, а герой наш обитал в прелестном домике не очень близко от города. Да он сам же и пригласил их еще зимой, когда их приезд не казался ему помехой. Конечно, лишь немногие из них знали о его картине; сомневаюсь, чтобы они придавали ей большое значение. Картина, если уж говорить правду, была не бог весть что, хотя некоторые детали, возможно, и были удачны. Во всяком случае, дерево вышло странное. Единственное в своем роде. То же можно сказать и о самом Мелкине, хотя, с другой стороны, он был совершенно обыкновенным и даже глуповатым человеком. Наконец, время у Мелкина стало на вес золота. Городские знакомые вспомнили, что ему предстоит нелегкое путешествие, и кое-кто спросил себя, до каких же пор можно откладывать отъезд. Они прикидывали, кому достанется его домик, и будет ли новый хозяин лучше ухаживать за садом. Пришла осень, дождливая и ветреная. Стоя на стремянке в холодном сарае, художник пытался запечатлеть на холсте отблеск заходящего солнца на заснеженной вершине горы, слева от дерева. Он знал, что срок истекает – может быть, придется отчалить в самом начале будущего года. Кое-где в углах холста он успел только наметить то, что собирался написать. В дверь постучали. – Войдите! – резко отозвался Мелкин, поспешно слезая со стремянки. Крутя в пальцах кисть, он взглянул на посетителя. Это был Прихотт, его единственный сосед, других поблизости не было. Несмотря на это, Прихотт не очень нравился Мелкину, во-первых, потому, что чуть что, бежал к нему и требовал помощи, а во-вторых, терпеть не мог живописи. Зато он весьма критически относился к манере Мелкина ухаживать за садом. Причем замечал главным образом 'сорняки и неубранные листья, когда же ему случалось бросить взгляд на картины (что бывало редко), он видел только серые и зеленые пятна и ровно никакого смысла в них не находил. – Ну, Прихотт, что стряслось? – спросил Мелкин. – Мне совестно вас отрывать,– сказал Прихотт, даже не взглянув на картину.– Вы, конечно, очень заняты. Мелкин и сам хотел сказать что-нибудь в этом духе, но не решился и коротко ответил: – Аа– Но мне больше не к кому обратиться! – пожаловался Прихотт. – Ну конечно,– вздохнул Мелкин. Это был достаточно громкий вздох, чтобы сосед его услышал.– Чем я могу вам помочь? – Жена уже несколько дней хворает, и я начинаю тревожиться,– сказал Прихотт.– А тут еще такой ветер. С крыши валится черепица, в спальню льется вода. По-моему, нужно вызвать доктора. И кого-нибудь, чтобы сделали ремонт. Только когда их еще дождешься. Вот я и подумал – может, у вас найдутся доски и парусина или холст: я бы залатал крышу и продержался день-другой.– Вот тут-то он и перевел глаза на картину Мелкина. – Бог ты мой! – воскликнул Мелкин.– Вот уж действительно не повезло. В такую погоду... Надеюсь, у вашей жены обычная простуда. Я загляну к вам через пару минут и помогу перенести больную вниз. – Очень признателен,– холодно отвечал Прихотт.– Только это не простуда. У нее жар. Из-за простуды я бы не стал вас беспокоить. Кроме того, жена уже лежит внизу. Не с моей ногой бегать вверх-вниз по лестнице с подносами... Но я вижу, вы заняты. Извините, что побеспокоил. Просто я надеялся, что вы войдете в мое положение и выберете время съездить за доктором, а заодно и к строителям, раз уж у вас нет лишнего холста. – Конечно,– проговорил Мелкин, хотя на сердце у него кошки скребли,– конечно, я мог бы съездить... Пожалуй, я съезжу, раз вы так тревожитесь.– Не то чтобы у него заговорила совесть, просто сердце было очень мягкое. – Я тревожусь, очень тревожусь,– подтвердил Прихотт.– Если бы не моя нога... И пришлось Мелкину поехать. Положение, сами понимаете, было щекотливое. Прихотт жил рядом, а больше поблизости не было ни одной живой души. У Мелкина был велосипед, у Прихотта велосипеда не было. Не говоря уже о том, что этот Прихотт был хромой, причем настоящий хромой. Конечно, Мелкин еще не дописал картину, и об этом следовало бы подумать соседу. Однако сосед о картинах не думал, он вообще не интересовался живописью, и тут уж Мелкин ничего не мог поделать. «Проклятие!» – пробормотал он и вывел велосипед из-под навеса. Было сыро, дул ветер, и дневной свет уже бледнел. «Сегодня мне больше не поработать»,– подумал Мелкин. Сейчас, когда руки его сжимали руль, а ноги крутили педали, он совершенно ясно понял, увидел, как надо написать блестящие листья, за которыми поднималась вдали заснеженная гора. У него упало сердце, когда он подумал, что, может быть, не успеет перенести эту идею на холст. Мелкин нашел доктора и оставил записку в строительной конторе. Контора уже закрывалась: все разошлись по домам. Мелкин промок до костей, и ему нездоровилось. Доктор явился по вызову не так быстро, как сам Мелкин откликнулся на просьбу Прихотта. Он прибыл лишь на следующий день – и очень кстати, потому что к этому времени в двух домах было уже два пациента. Мелкин лежал в постели с высокой температурой, и в голове его сплетались чудесные орнаменты из листьев и ветвей. Ему не стало лучше, когда он узнал, что у миссис Прихотт была легкая простуда и она уже встала на ноги. Он отвернулся к стене и зарылся лицом в листья. Несколько дней он не поднимался. Ветер выл в трубе. Ветер продолжал разрушать крышу Прихотта, и у Мелкина на потолке тоже начало подтекать. Строители так и не приехали. Несколько дней Мелкину было все равно. Потом он выбрался из дому поискать какой-нибудь еды (жены у него не было). Прихотт не появлялся: у него разболелась нога. А его жена была занята тем, что вытирала лужи и выносила ведра с водой. Если бы ей понадобилось одолжить что-нибудь у Мелкина, она послала бы к нему Прихотта, несмотря на ногу. Но так как одалживать у художника было нечего, он ее не интересовал. Примерно через неделю Мелкин, шатаясь, добрел до сарая. Он попробовал влезть на стремянку, но у него кружилась голова. Тогда он сел и уставился на картину. Но в этот день ему в голову не приходило ничего замечательного. Он мог бы написать песчаную пустыню на заднем плане, но и на это у него не хватало фантазии. Однако назавтра Мелкину стало гораздо лучше. Он взобрался на лесенку и взялся за кисть. Тут раздался стук в дверь. – Силы небесные! – возопил Мелкин. С таким же успехом он мог бы сказать: «Войдите!» –. потому что дверь все равно отворилась. На этот раз вошел незнакомый, очень высокий мужчина. – Здесь частная студия, – сказал Мелкин. – Я занят. – Я – инспектор домов,– отвечал мужчина, подняв кверху удостоверение, чтобы Мелкину было видно со стремянки. – Ах так! – проговорил художник. – Дом вашего соседа в неудовлетворительном состоянии,– сказал инспектор. – Знаю,– ответил Мелкин.– Я уже давно известил строителей, но они почему-то не явились. А потом я заболел. – Понятно. Но теперь-то вы здоровы. – Я не строитель. Прихотту следует обратиться с просьбой в муниципалитет, пусть пришлют аварийную службу. – Служба занята более серьезными делами,– сказал инспектор.– Затопило долину, и многие семьи остались без крова. Вам бы следовало помочь соседу и сделать временный ремонт, чтобы повреждения не распространились и починка крыши не стала слишком дорогой. Здесь у вас масса материалов: холст, доски, водоотталкивающая краска... – Где? – негодующе спросил Мелкин. – Вот! – сказал инспектор, указывая на картину. – Моя картина! – воскликнул художник. – Ну и что? – возразил инспектор.– Дома важнее. – Не могу же я...– но тут Мелкин замолчал, ибо в сарай вошел еще один человек. Он был так похож на инспектора, что казался его двойником: высокий, с головы до ног одетый в черное. – Поехали! – произнес вошедший.– Я возница. Мелкин, дрожа, слез со стремянки. Казалось, лихорадка вернулась к нему: его знобило, в голове все плыло. – Возница? Возница? – забормотал он.– Чей возница? – Ваш и вашего экипажа,– ответил незнакомец.– Экипаж заказан давно. Сегодня он, наконец, пришел – и ожидает вас. Пора, сами понимаете. – Ну вот, – сказал инспектор. – Вам надо отправляться. Не очень-то, конечно, прилично уезжать, не доделав дела. Ну да ладно, теперь мы, по крайней мере, сможем воспользоваться этим холстом. – Боже мой! – и бедный Мелкин разрыдался.– Ведь она... эта картина... еще не готова! – Не готова? – удивился возница.– Во всяком случае, ваша работа над ней закончена. Пошли. И Мелкин подчинился, понимая, что спорить бесполезно. Человек в черном не дал ему времени на сборы, сказав, что об этом надо было думать раньше, а теперь они опаздывают на поезд. Второпях Мелкин захватил в прихожей небольшую дорожную сумку. Позже оказалось, что в ней был только ящик с красками и альбом для эскизов – ни одежды, ни еды. Но на поезд они поспели. Художник устал, ему хотелось спать, он плохо понимал, что происходит, когда его впихнули в купе. Он забыл, куда и зачем он едет. Почти сразу же поезд вошел в туннель. Проснулся Мелкин на большой станции, за окном смутно рисовался вокзал. По платформе шел носильщик, но выкрикивал он не название станции, а имя художника. Мелкин торопливо выбрался из вагона и вдруг обнаружил, что забыл сумку. Он бросился назад, но поезд уже уходил. – А, вот и вы! – сказал носильщик.– Наконец-то. Идите за мной. Как, вы без багажа? Придется вас направить в работный дом. Мелкин снова почувствовал себя плохо и упал без чувств на платформу. Была вызвана карета скорой помощи, и приезжего отвезли в больницу работного дома. Лечение ему совсем не понравилось. Его поили чем-то очень горьким. Санитары были молчаливые и недобрые, смотрели исподлобья, а кроме них его изредка навещал врач, очень суровый. Вообще больница сильно смахивала на тюрьму. В определенные часы Мелкину приходилось заниматься изнурительным трудом: он копал землю во дворе, сколачивал какие-то доски и красил их в один и тот же цвет. За ворота выходить не разрешалось. Вдобавок его заставляли время от времени сидеть в полной темноте, «чтобы он хорошенько подумал». В такие минуты Мелкину вспоминалось прошлое. Лежа в темноте, он говорил себе одно и то же: «Как жаль, что я не зашел к Прихотту в первый день, когда начался ветер. Я ведь собирался. Тогда черепицу поправить ничего не стоило. Миссис Прихотт не простудилась бы, и я бы тоже не заболел. Ах, как жаль. У меня была бы в запасе еще целая неделя». Но постепенно он забыл, зачем ему нужна была эта неделя. Теперь его интересовала только больничная работа. Он прикидывал, сколько времени ему понадобится, чтобы перестлать пол, навесить дверь, починить ножку стола. Он стал нужным человеком, но, конечно, не по этой причине беднягу так долго держали в больнице. Врачи ждали, когда он поправится,– хотя подразумевали под этим совсем не то, что подразумеваем мы.
(окончание следует) |
| Автор: Chanda | Джон Толкиен Лист работы Мелкина (окончание)
И вдруг все переменилось. У него отобрали плотницкую работу и заставили день за днем, с утра до ночи копать землю. Мелкин трудился, как вол, кожа на ладонях была содрана, спина болела, как переломленная. Наконец он почувствовал, что не сможет больше воткнуть лопату в землю. Никто не сказал ему спасибо. Немного позже появился врач. – Достаточно! – произнес он.– Полный отдых... в темноте. Лежа впотьмах, Мелкин принимал прописанный отдых. Ничего кроме усталости он не чувствовал и ни о чем не думал, и не мог бы сказать, сколько времени пролетело – часы или годы. Но вдруг он услышал незнакомые голоса: похоже было, что за стеной, в соседней комнате, заседает медицинская комиссия, а может, чтонибудь и похуже. – Теперь дело Мелкина,– сказал чей-то голос, и был он еще суровей, чем голос врача. Другой голос спросил: – А что у него было не так? Что не в порядке у Мелкина? Сердце у него было на месте. И голова работала. – Плохо работала,– возразил первый голос.– Сколько времени он потерял даром! Не подготовился к путешествию... Был вроде бы человеком не бедным, а сюда явился чуть ли не нагишом, так что пришлось поместить его в отделение для нищих бродяг... М-да, боюсь, что дела его не блестящи. Во всяком случае, отпускать его рано. – Может быть, вы и правы,– отозвался второй голос, – но ведь он всего лишь человек. Маленький и слабый. Давайте заглянем еще раз в досье. По-моему, кое-что здесь говорит в его пользу. Например, есть сведения, что он был художником. Вы этого не знали? Разумеется, он не был великим художником, и все же ему удалось написать очень недурной Лист. Вот заключение экспертов... Он очень упорно работал, и, заметьте, не был зазнайкой. Не воображал, что искусство освобождает его от обязанностей перед законом. – Почему же он так часто его нарушал? – Так-то оно так, но все-таки он откликался на многие просьбы... – На немногие. Да и те называл «помехами». Потрудитесь внимательнее прочесть досье. Смотрите, как часто повторяется это слово вперемежку с жалобами и глупыми проклятьями. Ему, видите ли, мешали! – сказал первый голос. А ведь, правда, подумал Мелкин, лежа в темноте. Ничего не скажешь. Просьбы людей действительно раздражали его. – Что там еще? – спросил брезгливо первый голос. – Тут есть еще дело некоего Прихотта, оно прибыло позже... Прихотт был соседом Мелкина, ни разу пальцем для него не пошевелил, а Мелкин ему помогал. И я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в досье нет ни слова о том, чтобы когда-нибудь Мелкин ждал от него благодарности. Судя по всему, он вообще об этом не думал. – М-да, пожалуй, это действительно смягчающее обстоятельство,– произнес первый голос.– Но не существенное! В сущности, Мелкин очень мало заботился об этом Прихотте. Все, что он делал для него, он потом просто выкидывал из головы как досадный эпизод. – И последнее донесение,– сказал второй голос,– о поездке на велосипеде под дождем. Не знаю, как вы посмотрите на это, но, по-моему, это было истинное самопожертвование. Ведь Мелкин знал, что ничего такого страшного с женой Прихотта не случилось, и знал, что рискует не закончить картину. И все-таки поехал. – Ну еще бы,– проворчал первый голос,– ваша задача – истолковать любой, даже самый незначительный факт в пользу подопечного. Но что вы предлагаете? – Я считаю, что пора перейти к курсу мягкого лечения,– ответил второй голос. Мелкину, который с бьющимся сердцем слушал весь этот разговор, показалось, что никогда в жизни он не встречал такого великодушия. Слова «мягкое лечение» невидимый голос произнес так, словно речь шла о приглашении на королевский пир. И Мелкин устыдился. Словно его при всех громко похвалили, хотя ясно было, что он ничего такого не заслужил. Мелкин зарылся лицом в подушку. Наступило молчание. Потом первый голос спросил над самым ухом у Мелкина: – Слыхал? – Да,– прошептал Мелкин. – Ну и что ты на это скажешь? Мелкин сел на кровати. – Не могли бы вы сказать мне что-нибудь о Прихотте? – спросил он.– Мне бы хотелось с ним повидаться. И, пожалуйста, не беспокойтесь насчет его отношения ко мне. Он был отличным соседом и очень дешево продавал мне прекрасную картошку. Я сэкономил массу времени. – Дешево продавал картошку? Весьма приятно слышать,– заметил голос. Вновь последовало молчание. – Хорошо, согласен,– послышалось уже издалека.– Переводите на следующий этап. Проснувшись, Мелкин увидел, что ставни распахнуты и каморка залита солнечным светом. Вместо больничной пижамы на стуле лежала обычная одежда. После завтрака ему принесли железнодорожный билет. – Можете отправляться,– сказал Мелкину врач.– Носильщик о вас позаботится. Всего хорошего. Мелкин спустился к станции – ее сверкающая на солнце крыша виднелась невдалеке. Носильщик сразу его заметил. – Вот сюда! Багажа у Мелкина не было, довольный носильщик повел его на платформу, возле которой стоял свежевыкрашенный паровозик и прицепленный к нему единственный вагон. Все здесь было новеньким: рельсы сияли, шпалы под горячими лучами солнца остро пахли свежим дегтем. В вагоне было пусто. – Куда идет поезд? – осведомился художник. – По-моему, это просто пока никак не называется,– ~отозвался носильщик.– Но вы там не заблудитесь.– И, кивнув на прощание, захлопнул двери вагона. Поезд тронулся. Пассажир смотрел в окно. Крошечный паровозик усердно пыхтел, пробираясь по извилистому ущелью с высокими зелеными стенами, над которыми лучилось голубое небо. Довольно скоро раздался свисток, заскрежетали тормоза, поезд остановился. Здесь не видно было даже платформы, должно быть, это был глухой полустанок. Узкая лесенка поднималась по заросшему травой склону. Наверху – изгородь с калиткой. А рядом с калиткой стоял его велосипед – по крайней мере очень похожий, и к рулю была привязана картонка с надписью: «Мелкин». Мелкин толкнул калитку, сел на велосипед и покатил куда глаза глядят. Тропинка потерялась в густой траве, он колесил по зеленому лугу. Ему показалось, что где-то он уже видел эти места. Снова начался подъем. Солнце закрыла огромная тень. Мелкин поднял глаза – и едва не свалился с велосипеда. Перед ним стояло дерево – его дерево, но законченное, если можно так говорить о живом дереве, с могучими ветвями и листьями, трепетавшими под ветром. Как часто представлял себе Мелкин этот ветер, но так и не сумел запечатлеть его на холсте. – Вот это дар! – проговорил Мелкин. Он говорил о своем искусстве, о картине – и все же употребил это слово в его буквальном значении. Теперь он заметил и лес, и снежные вершины на горизонте. И все это выглядело не так, как он когда-то рисовал, а скорее так, как он себе это представлял. Подумав, Мелкин направился к лесу. Обнаружилась странная вещь: лес был, конечно, вдали, «лес на заднем плане»,– и в этом-то и заключалось его очарование,– и все-таки к нему можно было приблизиться, даже войти в него, и очарование не исчезало. Он и не подозревал, что можно войти в даль так, чтобы она не превращалась просто в окружающую местность. А теперь перед ним все время открывались новые дали, двойные, тройные, четверные, и чем дальше, тем сильнее влекли к себе. Целая страна раскинулась вокруг, уместившись в одном лесу или, если хотите, на одной картине. И наконец, совсем далеко – горы. Они как будто стояли на месте и вместе с тем приближались. Они были близко и далеко. Казалось, горы оставались за пределами картины. Они связывали ее с чем-то другим, словно там, за деревьями, находилась другая страна – новая картина. Мелкин озирал окрестности. Он вернулся к своему дереву, оно было закончено (ни возница так говорил»,– припомнил он), но вокруг, он заметил это, осталось несколько неубедительных мест. Следовало бы поработать над ними. Нет, не переделать, а лишь довести работу до конца. Теперь он в точности знал, как это будет выглядеть. Он сел на траву и погрузился в раздумье. Но в планах что-то не ладилось. Чего-то – или кого-то – не хватало. – Ну, ясно! – вздохнул Мелкин.– Прихотт, вот кто мне нужен. Ему ведь известно многое, о чем я и понятия не имею. Мне нужна помощь, нужен добрый совет – как это я раньше о нем не подумал! И в самом деле, в неглубокой ложбинке, не сразу бросавшейся в глаза, стоял с лопатой в руках его бывший сосед мистер Прихотт и растерянно смотрел по сторонам. – Хэлло, Прихотт! – позвал Мелкин. Прихотт вскинул лопату на плечо и, хромая, подошел к нему. Друзья не произнесли ни слова, только кивнули друг другу, как раньше, когда встречались на улице. Молча прикинули, где поставить домик и разбить сад, без чего, очевидно, обойтись было невозможно. И скоро стало ясно, что теперь Мелкин лучше Прихотта умеет распоряжаться своим временем. Как ни странно, именно Мелкин увлекся домом и садом, что же касается Прихотта, то он бродил, посвистывая, по окрестностям, разглядывал деревья и особенно главное дерево. Как-то раз Мелкин сажал живую изгородь, а Прихотт валялся на траве с желтым цветком в зубах. Давным-давно Мелкин изобразил множество таких цветков между корнями дерева. На лице мистера Прихотта блуждала блаженная улыбка. – Чудесно,– проговорил он.– Спасибо, что замолвил за меня словечко. Честно говоря, я не заслужил, чтобы меня отправили сюда. – Чепуха,– ответил Мелкин.– Ничего такого я не говорил. Во всяком случае, мои слова не имели значения. – Еще как имели,– возразил Прихотт.– Без тебя я бы сюда ни за что не попал. Понимаешь, это все тот голос... ну, ты знаешь. Он сказал, что ты хочешь меня видеть. Так что я перед" тобой в долгу. – Нет. Ты в долгу перед ним. Мы оба перед ним в долгу,– сказал Мелкин. Так они жили и работали вместе. Не знаю, как долго это продолжалось. Иногда они вместе пели песни. И вот при шло время, когда домик в ложбине, сад, лес, озеро – все на картине оказалось почти завершенным, почти таким, каким ему надлежало быть. Большое дерево было все в цвету. – Сегодня вечером закончим,– сказал Прихотт, вытирая пот со лба.– Кончим и как следует все посмотрим. Ты не прочь прогуляться? На другой день они поднялись рано и шли целый день, пока не достигли Предела. Никакой особенной границы там не было – ни стены, ни забора, однако путники поняли, что дошли до края этой земли. Какой-то человек, похожий на пастуха, спускался с холма. – Проводник не нужен? – спросил он. Друзья переглянулись, и Мелкин почувствовал, что хочет и даже должен продолжать путь. Но Прихотт дальше идти не хотел. – Мне надо дождаться жены,– сказал Прихотт.– По-моему, ее должны отправить к нам очень скоро... Уверен, что ей здесь понравится. Да, кстати, – обратился он к пастуху. – Как называется эта местность? Пастух удивился. – А вы разве не знаете? Это – Страна Мелкина,– сказал он с гордостью. – Как? – воскликнул Прихотт.– Неужели все это придумал ты, Мелкин? Я и не подозревал, какой ты умный. Почему же ты молчал? – Он давно пытался вам сказать, но вы не обращали внимания. Тогда у него был только холст и ящик с красками, а вы – или кто-то там еще, это не важно,– хотели этим холстом залатать крышу. Все это вокруг – это и есть то, что вы называли «мазней Мелкина». – Но тогда все было совсем не похоже на настоящее,– пробормотал Прихотт. – Да, это был только отблеск,– сказал пастух,– но вы могли бы уловить его, если бы захотели. – Я сам виноват,– вмешался Мелкин.– Мне надо было тебе объяснить, но я сам не понимал, что делаю. Ну да ладно, теперь это неважно... Видишь ли, я должен идти. Может быть, мы еще встретимся. До свидания! Он пожал Прихотту руку,– это была честная, крепкая рука. На минуту Мелкин оглянулся. Цветущее дерево сияло, как пламя. Птицы громко пели на ветвях. Мелкин рассмеялся, кивнул Прихотту и пошел за пастухом. Ему предстоит узнать еще многое. Он научится пасти овец на поднебесных лугах. Он будет смотреть в огромное распахнутое небо и уходить все дальше, все выше подниматься к горам. А что будет потом, я не знаю. Маленький Мелкин в своем старом доме сумел угадать очертания гор – так они оказались на его картине. Но лишь те, кто поднялся в горы, могут сказать, какие они на самом деле и что лежит за ними. – По-моему, глупый был человек,– заявил советник Томкине.– Бесполезный для общества. – Смотря что вы понимаете под пользой,– заметил Аткинс, школьный учитель. – Бесполезный с практической и экономической точки зрения,– уточнил Томкине.– Из него, может, и вышел бы толк, если бы вы, педагоги, знали свое дело. А вы, прошу прощения, ничего в нем не смыслите... Вот и получаются такие Мелкины. Да, будь я начальством, я бы заставил его работать. Мыть посуду, что ли, или подметать улицу... А нет, так просто спровадил бы его подальше. – Вы хотите сказать, что заставили бы его отправиться в путешествие раньше времени? – Вот именно, в «путешествие», как вы изволили выражаться. На свалку! – Вы полагаете, что живопись совершенно ненужная вещь? – Нет, отчего же, и живопись может приносить пользу,– сказал советник Томкинс,– только не такая. Не эти листочки-цветочки. Верите ли, я у него как-то спросил, зачем они ему. А он отвечает, что они красивые. «Что красивое,– говорю,– органы питания и размножения у растений?» – «Да,– говорит,– органы питания и размножения». Представляете? – Жаль его,– вздохнул Аткинс.– Он ничего не довел до конца. Помните тот большой холст, которым залатали крышу? Его потом тоже выбросили, но я вырезал кусочек. На память. Верхушка горы и часть дерева. – О ком это вы? – вмешался Перкинс. – Да был тут один...– буркнул Томкине.– Бывший владелец этого дома. – Мелкин? А я не знал, что он занимался живописью,– удивился Перкинс. После этого имя Мелкина, кажется, ни разу не всплывало в разговорах. Впрочем, уголок картины сохранился. Краски пожухли, но один тщательно выписанный лист был хорошо виден. Аткинс вставил обрывок холста в рамку, а позднее даже передал в дар городскому музею. Здесь картина под названием «Лист работы неизвестного художника» долгие годы висела в темном углу. Мало кто обращал на нее внимание, да и вообще посетителей в музее было немного. Однажды музей сгорел. Никаких следов деятельности Мелкина с тех пор больше не осталось. – В сущности, это отличное место для отдыха и восстановления здоровья,– сказал голос, тот, который был вторым.– Народ туда прямо валом валит. – Вот как? – отозвался первый голос.– Но в таком случае следует присвоить этой местности подобающее название. Есть какие-нибудь предложения? – Простите, но об этом уже позаботились. По крайней мере, носильщик оповещает пассажиров только так: «Поезд в Страну Мелкина отправляется через десять минут!» Страна Мелкина. Я счел необходимым известить высшие инстанции. – Что же они сказали? – Они расхохотались. Расхохотались – да так, что отозвались горы! |
| Автор: Vilvarin | Chanda, большое СПАСИБО за сказку про Мелкина |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 18 мая - Международный день музеев Ганна Шевченко Пузырь, соломинка и лапоть
Жили-были пузырь, соломинка и лапоть. Пошли они в музей картины смотреть. А возле музея канализация прорвала, течёт ручьем. Дошли они до этого места и не знают, как перейти. Лапоть говорит пузырю: — Пузырь, давай на тебе переплывем! — Нет, Лапоть! Пусть лучше Соломинка перетянется с берега на берег, мы по ней перейдем. Соломинка перетянулась с берега на берег. Лапоть пошел по соломинке, она и переломилась. Лапоть упал в воду. А Пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул. Работники музея решили, что это инсталляция неизвестного художники и забрали их в музей. Они находятся там по сей день в павильоне концептуального искусства. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 22 мая - Международный день биологического разнообразия. Сказка о цветах и художнике... (автора не знаю. Взято отсюда: )
Когда-то, в давние времена, все цветы были белыми. Но в один прекрасный день в сад пришел художник с большим ящиком красок и целой связкой кистей. - Подходите все ко мне и говорите, кто какого хочет быть цвета, - крикнул он цветам и кустам, и те быстренько встали в очередь, потому что каждому хотелось, чтобы ему досталась краска поярче. Ближе всех к художнику оказался Жасмин. Он сказал, что ему хотелось бы, чтобы его цветы были золотисто-желтыми, как цвет волос его любимого Солнца. - Как ты посмел пролезть раньше королевы Розы? – оттолкнул его художник. - Я вовсе не пролез. Я стою тут уже много лет, - обиженно ответил Жасмин. - Но ты должен понимать, кому по праву положено быть повсюду первой, - наставлял его художник. – В наказание останешься последним, но и тогда, еще как следует, попросишь меня. - Вы ошибаетесь, сударь, никого я просить не стану, - ответил Жасмин и остался на своем месте. Художник долго возился с розами. Каких только красок не выбирали себе гордые королевы! И алую, и желтую, и розовую, и оранжевую. Только синюю никто из них не захотел – уж очень она простая, деревенская. Синей краской, чтобы она не пропала, художник покрасил Незабудки и Васильки, хотя им хотелось стать алыми. Но художник решил, что для этакой деревенщины сойдет и синий. Маки улыбнулись художнику, и он не скупился на краску и густо накладывал ее. Далии польстили ему, и их лесть окупилась с лихвой. Он проработал несколько дней, наделив их всевозможными оттенками. Очень скромным оказался лиственный репей. Когда его спросили, какую краску он хочет, он ответил: - За любую, сударь, спасибо вам скажу. Художник выкрасил цветы репея в серый цвет и спросил, доволен ли он. - Вам, сударь, виднее, что кому полагается. Я же понимаю, что на всех ярких красок у вас не хватает. И если каждый будет так ярок, как розы, то никто и не заметит их красоты! Колючий репей был настойчивее и получил красные цветы. Маленькие Анютины глазки обступили художника и, вежливо здороваясь, приседали. Это выглядело так мило, что они показались художнику маленькими девочками, и он раскрасил цветочки Анютиных глазок, как личики – веселые, грустные и серьезные. Яблоня пообещала художнику подарить осенью целую корзину яблок, если он выкрасит ее цветы в нежно-розовый цвет. Художник, не жалея сил, лазил по сучьям яблони до самой вершины. Сирень придумала по-другому отблагодарить художника, если он не пожалеет красок. - Весною ты сможешь ломать наши ветви и дарить их своим невестам, извини – невесте, - сказала сирень. – И чем больше ты будешь ломать нас, тем пышнее мы будем цвести. - За бестактность ты останешься белой, - отстранил ее обиженный художник, но сестер ее одарил великолепными красками. Одуванчики поднесли художнику кружку сметаны, и Жасмин только смотрел, как много художник переводит на одуванчики золотисто-желтой краски, облюбованной Жасмином для себя. Работая желтой краской, художник вспомнил о Жасмине, который первым выбрал ее. - Ну, брат, так как же? – насмешливо обратился он к Жасмину. – Этой краски осталось немного, но если хорошенько попросишь, я всю ее отдам тебе. - Не буду я просить, - ответил Жасмин. - Как это так? – художника начало злить упрямство Жасмина. – Ну, ладно, если тебе трудно произнести свою просьбу, то поклонись хотя бы, согни спину. - Я предпочитаю сломаться, но не согнуться, - гордо ответил Жасмин. Художник, разозлившись, брызнул желтой краской Жасмину в лицо и закричал: - Кто ты такой, что не хочешь просить и кланяться! Ну и оставайся на веки вечные белым! Таким он и остался – белый хрупкий Жасмин. А попробуй согнуть его – сломается… |
| Автор: Vilvarin | Очень красивые цветы |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 27 мая - Сидоров день Владимир Славущев Не по чину
Деревенская жизнь всегда публична, поэтому, когда Гришка Житухин (это так, по деревне, а так ему шестьдесят семь и он Григорий Ефимыч) отказался резать козленка, в тот же день все знали о такой глупости. — Мой как был дурак — ох дурак! — так дураком и помрет, — рассказывала всем его жена Назаровна. — «Не буду, — говорит, — резать козла. Козу, — говорит, — зарежу. А то что это, — говорит, — вашему бабьему отродью такая привилегия!.. Другом мне будет, — говорит, — так всем и передай!» Вот всем передаю, тьфу!.. Пришлось козочку зарезать!.. — Она всхлипнула и утерла глаза. Козла Гришка так и назвал — Дружок. Когда летом приехал сын с женой и двумя дочками, Дружку было уже несколько месяцев, и девчонки полюбили с ним играть, потому что у него одного были на шее мягенькие сережки. — Ладно, мам, пусть живет, — сказал сын, гладя Дружка по шее и теребя сережки, — и отец вроде повеселел. Пусть. — Так ему ж отдельный хлев нужен! — Сделаем. И они с отцом соорудили Дружку отдельный загон, потому что козла нельзя держать вместе с козами: молоко пропахнет — покупать перестанут. Гришка сам убирал в загоне — Назаровна к нему даже не подходила. Осенью сын получил от Назаровны письмо. «Гришенька, — писала мать, — забодал меня козел. Лежу. Напиши отцу, чтоб зарезал». Григорий Григорьевич усмехнулся — кого резать-то? Ничего писать он не стал, а на другой день приехал. Выяснилось, что мать по привычке замахнулась на отца, когда он, выпивши, играл перед домом на гармошке. Дружок стоял рядом и слушал, а когда увидел над собой поднятую руку, развернулся и ударил Назаровну рогами прямо в живот. Хорошо, на ней была телогрейка, а то… Как Григорий Григорьевич ни уговаривал отца, ничего не вышло, а сам он резать скотину не умел — городской, да и не стал бы этого делать. После этого случая Гришка совсем повеселел и, обнимая Дружка, часто говорил: — Мы, мужики… — и чего-нибудь по теме. В следующем году Дружок уже был взрослый козел, и его брали попользовать соседских коз. Гришка водил его всегда лично, говорил: «Мы, мужики…» — и возвращался выпивши. Оказался Дружок незаменим и при небольшом стаде деревенских овец: овцы — дуры, и он водил их за собой не хуже пастуха и от деревни не отдалялся, правда, залезал в огороды, из-за чего Назаровна опять завела разговор о том, чтоб его зарезать. Но не тут-то было! Так что выйдет Гришка вечером на улицу, крикнет во всю глотку в свежесть и тишину: — Дружо-о-ок! — И потише уже: — Веди этих дур домой. Дружок приводил. Гришка теперь не так часто материл Назаровну и перестал грозиться, что уйдет в соседнюю деревню к Лизутке — старшей дочери, которая, честно говоря, ни за что бы его не приняла. — Ефимыч, как твой друган-то? — окликали его дачники, когда видели его с Дружком (им было весело). — Живем! — отвечал Гришка, не догадываясь о двусмысленности своих слов и не понимая, чего это городские перемигиваются, но тоже улыбался. — Срамно смотреть, — говорила Назаровна, — смеются над тобой: с козлом подружился! — Ничего, — отвечал Гришка, — хоть с козлом. С тобой брехали всю жизнь — не срамно? А, Дружок? Что молчишь? Дружок брал из рук Гришки ветки ивы и кивал. — Говоришь, смеются надо мной? — продолжал Гришка. — А вот дачник мне один сказал: «Счастливый ты, Ефимыч, есть кому старость скрасить». Во-от!.. — О душе надо думать, а он о счастье заговорил! — Темная ты баба, — отвечал Гришка, — одно слово — раскольница! Счастье и душа — это, поди, одно и то же. — В хлеву бы лучше убрал! — Я теперь и без тебя знаю, что мне лучше… А в хлеву уберу. Убрав в хлеву, Гришка играл на гармошке, а Дружок стоял или лежал рядом. — К Шурке даже не подходит, — жаловалась Назаровна, — а от козла не отходит. Ну не дурак? Шурка был несчастьем Назаровны и Гришки — он был даун, и каждый из них обвинял в этом другого: Гришка говорил, что она его нагуляла на стороне, а та отвечала, что у таких «алкогориков», как Гришка, только такие и родятся. А еще через год Гришка сказал Назаровне: — Вот и брехали мы с тобой, и гуляла ты, и кормишь до сих пор не вволю, а жалко мне тебя. — Не бреши, — ответила Назаровна, ворочая горшками в печи, а потом с подозрением посмотрела на Гришку — такой у него был светлый взгляд. Не к добру! Как перед смертью. Когда Дружку было четыре года, Назаровна уже не жаловалась, а удивлялась: — Мой-то не ругается, все кругом переделал, дров видал сколько заготовил? Анютой меня называет — вспомнил! На гармошке только все играет. А тут слышу — с Шуркой разговаривает: «Ничего, — говорит, — ты не понимаешь, хуже козла!» Хоть так! Спасибо Дружку, пусть уж до самой смерти живет! Бабы завидовали: своих мужиков давно похоронили, но злились на них до сих пор, а тут Назаровне привалило! А Гришка даже и не подозревал, что ему, смерду, судьба сделала поистине царский подарок: не каждому и красивому, и образованному, и богатому даже и в старости достается высшее счастье — считать свою жизнь полезной, сравнивать без зависти и наслаждаться без сравнения. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 31 мая - Всемирный день блондинок Лев Николаевич Толстой ЗОЛОТОВОЛОСАЯ ЦАРЕВНА (Сказка)
В Индии была одна царевна с золотыми волосами; у неё была злая мачеха. Мачеха возненавидела золотоволосую падчерицу и уговорила царя сослать ее в пустыню. Золотоволосую свели далеко в пустыню и бросили. На пятый день золотоволосая царевна вернулась верхом на льве назад к своему отцу. Тогда мачеха уговорила царя сослать золотоволосую падчерицу в дикие горы, где жили только коршуны. Коршуны на четвертый день принесли ее назад. Тогда мачеха сослала царевну на остров среди моря. Рыбаки увидали золотоволосую царевну и на шестой день привезли ее назад к царю. Тогда мачеха велела на дворе вырыть глубокий колодезь, опустила туда золотоволосую царевну и засыпала землей. Через шесть дней из того места, куда зарыли царевну, засветился свет, и когда царь велел раскопать землю, там нашли золотоволосую царевну. Тогда мачеха велела выдолбить колоду тутового дерева, заделала туда царевну и пустила ее по морю. На девятый день море принесло золотоволосую царевну в Японскую землю, и там ее японцы вынули из колоды. Она была жива. Но как только она вышла на берег, она умерла, и из нее сделался шелковичный червь. Шелковичный червь всполз на тутовое дерево и стал есть тутовый лист. Когда он повырос, он вдруг сделался мертвый: не ел и не шевелился. На пятый день, в тот самый срок, как царевну принес лев из пустыни,— червь ожил и опять стал есть лист. Когда червь опять повырос, он опять умер, и на четвертый день, в тот самый срок, как коршуны принесли царевну, червь ожил и опять стал есть. И опять умер, и в тот самый срок, как царевна вернулась на лодке, опять ожил. И опять умер в четвертый раз и ожил на шестой день, когда царевну выкопали из колодца. И опять в последний раз умер, и на девятый день, в тот самый срок, как царевна приплыла в Японию, ожил в золотой, шелковой куколке. Из куколки вылетела бабочка и положила яички, а из яичек вывелись черви и повелись в Японии. Черви пять раз засыпают и пять раз оживают. Японцы разводят много червей, делают много шелка; и первый сон червя называется сном льва, второй — сном коршуна, третий — сном лодки, четвертый — сном двора, и пятый — сном колоды. |
| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 1 июня - Международный день защиты детей Валька
Врала Валька с детства. Впервые попробовала, когда ей исполнилось шесть лет. А было это так: Придя с прогулки, она уселась на свою кровать, закатала штанину и обнаружила у себя на коленке огромную ссадину. Рядом крутилась Нинка, которая всегда хотела быть в курсе, а ещё лучше в центре событий. Она округлила глаза и заверещала на всю комнату: «Валя ра-а-анена!» Все приютские так и сбежались на зов вопящей девчонки и стали интересоваться «раной» Вальки. Подбежавший Димка из младшей группы (ему было всего четыре года и два месяца) спросил: «Тётя Валя, откуда это у тебя?». И тётя Валя задумалась. Вот Нинка, скажем, врала, что у неё родители-волшебники. Все так и сидели с раскрытыми ртами, слушая, что её родители сейчас в волшебной стране, и когда ей исполнится восемь, то чудесные папочка и мамочка заберут её к себе, учить на волшебницу. Все помнили, что Нинка приехала к ним всего год назад, а её родители погибли в автокатастрофе. Но как же она убедительно рассказывала! Как красочно она описывала чудо-страну, где всё-всё сбывается при взмахе волшебной палочки, а смешные драконы в очках читают на ночь детям сказки. Как же хотелось поверить, что она заберёт их в сказку, что есть радость и счастье, что можно оживить их папочку с мамочкой! Все послушали этот чудесный рассказ, все помечтали о счастье, а потом благополучно забыли. А чем она хуже? Да, ей всего-то поставил подножку Никита. Но кому будет плохо, если она капельку поразмышляет вслух? И Валька начала заливать, а дети стали завистливо слушать: её папа богатенький-богатенький! Только вот своё имя скрывает, что бы конкуренты ему не мешали. В детстве, еще до приюта, она каталась только на лимузинах, ела только приготовленное шеф-поваром, была в самых разных странах, у неё был дом с бассейном за городом и много домашних питомцев… Она была любимицей в семье, у неё было два телохранителя, a собственная швея шила фирменную одежду. (Маша заявила что такого не бывает, но все дети стали защищать Валечку). Любимой дочурке позволялось любое баловство… А однажды её украли, запросив огромный выкуп. Папочка спас её, заплатил состояние, чтобы это не попало в газеты… Он понял, что теперь все конкуренты и просто плохие дядечки, желающие ему зла, будут давить на него через его единственную, самую любимую дочь. (Тут Валечка забыв, что это неправда, разрыдалась). Мамочка была больна и не могла больше рожать. Всем давно было понятно, что надо спрятать дочь. Рыдали все. Кому же из прислуги хотелось расстаться с такой прелестной, любимой девочкой!? Но вот, папа разыграл похороны дочурки, отправил со слезами её в приют и поставил ей на охрану двух телохранителей. ( супер-пупер секретных, они очень хорошо прячутся и даже сейчас в комнате). А вот сейчас, только что, её опять попытались украсть, там, на заднем дворе, пока все играли у ворот на площадке! Произошла драка, со всякими спецэффектами, сальтами, прыжками и всяким таким. А когда тот прыгнул, а мой меня толкнул, чтобы тот не напал, то я очень сильно ударилась! Вот и всё.» - закончила Валька. Вот так она первый раз соврала. И все поверили! Они наконец то заметили Валечку, и даже Лена, которая всё время её обижала и кидала песочком в глаза, сказала: « А давай дружить?» И они стали дружить. А Женя теперь давал ей лопатку, когда они играли в песочнице. А Миша даже чмокнул её в щёчку! А Петька показал, где зарыт его секретик! А он её на целых две года старше. И её группа теперь с ней играет! А раньше её гнали. Валька даже придумала игру, в которую все согласились играть. Найди двух супер-пупер телохранителей. Теперь весь приют веселился. Правда, ни одного пока не нашли. А вечером Валька Ленке рассказывала, как хорошо она жила. Только потом, после рассказа, надо обязательно предупредить «только ты никому не говори». Тогда завтра об этом знал весь приют, да ещё с такими подробностями, что сама Валька поражалась. Теперь её все любили. А раньше её все гнали. Как теперь она счастлива, как же не хочется признаваться! Впервые ей было весело. А про Нинку все забыли. Она и подговорила детдомовских побить Вальку. Врёт она! Чтобы внимание на себя перетянуть! Помним мы её историю. В пять её кто-то к нам привёл. У порога оставил, а она и заревела. Какие богачи? Врёт! Плакса! А Нинка всегда убедительно говорила. И все её послушали. И все забыли, что тоже хотели Нинку побить, да та заплакала и воспитательница прибежала. А ночью они подождали, пока девочка уснёт. И Нинка встала перед кроватью девочки. И вспыхнула у неё к Вальке ненависть. Схватила она первое, что под руку попалось, и стала бить Вальку. А под руку попал железный будильник. А она молчала - терпела. Только громко всхлипывала при каждом ударе. А все смотрели. И все забыли, что Валька нечего не сделала. Нинка бьёт – значит, надо. А на следующий день Валька попала в больницу. Все знали, в чём дело, но боялись. И вообще - так Вальке и надо. Она лежала там два месяца. Ночью тихо плакала в подушку - поняла, что у неё нет ни друзей, ни мамочки, ни папочки. А однажды проснулась, а на краю кровати сидит женщина. С заплаканными глазами. И она поведала Валечке ужасную историю О Том, Что У Неё Есть Папа – Очень Богатый Человек. Только вот своё имя скрывает, что бы конкуренты ему не мешали. В детстве, когда она ещё не попала в приют, она каталась только на лимузинах, ела только приготовленное шеф-поваром, была в самых разных странах, у неё был дом с бассейном за городом и много домашних питомцев … Она была любимицей в семье, у неё было два телохранителя, собственная швея. А ей позволялось любое баловство… А однажды её украли, что бы потребовать выкуп. Папочка спас её, заплатил состояние, что бы это не попало в газеты… Он понял, что теперь все конкуренты и просто плохие дядечки, что желают ему зла, будут давить на него через его единственную, самую любимую дочь. (Тут Валечка разрыдалась) Мамочка была больна и не могла больше рожать. Всем давно было понятно, что надо спрятать дочь. Рыдали все. Кому же из прислуги хотелось расстаться с такой прелестной, любимой девочкой!? Но вот отец разыграл похороны Вальки, отправил со слезами её в приют и поставил ей на охрану двух телохранителей (супер-пупер секретных, они очень хорошо прячутся и даже сейчас в больнице). А вот совсем недавно, девочку избили. Папа узнал об этом и решил вернуть дочку, а потом поехать дом с бассейном за городом, куда-то далеко-далеко, где их никто не найдёт. А потом они узнали, что их деточка в больнице. И приехали, как только смогли. Валечка обняла мамочку.
«Смерть пациента наступила в 12.04. 30.05.2010. из-за внутреннего кровотечения. Все 42 часа врачи боролись за жизнь девочки. Пациент не просыпался и умер во сне. Карточка Валерии Инкиной»
|
Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104
Количество просмотров у этой темы: 495524.
← Предыдущая тема: Сектор Волопас - Мир Арктур - Хладнокровный мир (общий)






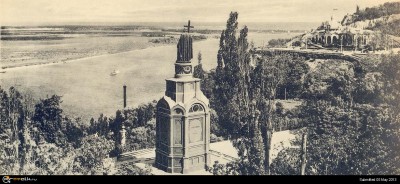

































 2015 © ART-Talk.ru - форум про компьютерную графику, CG арт, сообщество цифровых художников (18+)
2015 © ART-Talk.ru - форум про компьютерную графику, CG арт, сообщество цифровых художников (18+)