Список разделов » Литература » Уроки литературы
Звуковой повтор - поиск смысла. В. Т. Шаламов
| Автор: veronasunrise | Интересная статья, хотя я далеко не со всем согласна...
Первая строфа - ее звуковой каркас
Те миллиарды нервных клеток, из которых состоит человеческий мозг, увы, не могут помочь кибернетикам предвидеть появление определенной комбинации этих нервных клеток, не могут наблюдение за художественными способностями мозга превратить в научный эксперимент и дать нам возможность точного предсказания. Вероятность предсказания тут равна нулю. Это свидетельствует, что в данном случае речь идет об эстетических категориях — они-то и одерживают победу на наших глазах. Творческий процесс есть процесс торможения, отбрасывания лишнего, а не поиск, не накопление. Накопление — в любом виде и форме произошло давно, гораздо раньше, чем поэт берется за перо. Для первой строфы используется весь личный опыт всех клеток тела поэта, нервов, мышц, напрягаются мускулы памяти. Весь опыт человечества здесь пытается вырваться и закрепиться на бумаге. Тысячи различных побуждений находят свою равнодействующую в записи первой строфы — в создании звукового каркаса будущего стихотворения. Эта пришедшая первой строфа в окончательно отделанном стихотворении, может быть и не первой — в русском лирическом стихотворении, оптимальный размер которого — от восьми до двенадцати строк. (Восемь строк Пастернак считал идеалом для русской лирики. Я считаю — двенадцать! — ближе к историческому рубежу классического сонета в четырнадцать строк — формы, несомненно связанной с физиологическим, биологическим ритмом стихотворного размера. Во всяком случае, в русских стихах двенадцать строк — это тот оптимальный размер, в котором может быть выражено все, что хотел сказать лирический поэт на русском языке).
Уже эта первая строфа определяет любимую интонацию поэта. Ее первые слова уже подобраны, уже возникли непроизвольно в мозгу, чтобы гласные и согласные буквы представляли собой подобие кристалла геометрической правильности — повторяемый звуковой узор. И фонетические отклонения, вроде возникающих при замене “б” на “п” и т.п., обнаруживаются почти всегда тут же. Непосредственно поисковым инструментом тут служит рифма, значение которой в русском стихе очень велико и не в мнемоническом смысле, — как у Маяковского, — и не в “музыкальном”, — как у Бальмонта, — а именно как поискового инструмента, инструмента разведки в море слов, событий, идей, где чисто звуковой поиск приводит новые смысловые явления, которые либо тут же отвергаются, либо принимаются к записи на бумагу, либо цепляются за перо и встают в запись, как первый вариант. Это — процесс мгновенный, часто полусознательный. Начиная стихотворение, нельзя сказать, чем оно кончится, но каким будет его фонетический, интонационный облик — это предсказать можно. Тут-то и открывается простор и для эпигона и для пародиста. Итак, речь идет о применении, о создании более правильного термина, чем “создание” для первой строфы классического русского стихотворения, имеющего канонические оптимальные размеры от восьми до двадцати строк. “Возникновение” — более правильное выражение процесса чуда, который присутствует во всяком стихотворении. “Создание” — термин более выспренний, чем “возникновение”, несмотря на кажущуюся претенциозность последнего. Правильней всего было бы сказать “работа”, “дело” и уж, во всяком случае, надо избегать крайне неудачный термин — “творчество”. “Создание” же дискредитировано спортивными журналистами и поэтому должно быть вычеркнуто из лексикона поэтической работы. Озарение, чудо, вдохновение, возникновение — все это весьма реальные состояния в работе поэта — точные, почти научные формулировки движения его души. Но СОЗДАНИЕ? Можно создать толевую ситуацию, создать гол, но создать стих? Это — не из той оперы. Первая строфа всегда возникает на определенном звуковом каркасе:
Извозчичий двор и встающий из вод В уступах преступный и пасмурный Тауэр
Это и есть элементарный, но истинный и надежный прием при работе над стихотворением. Он был хорошо известен Пушкину:
Подъезжая под Ижоры Я взглянул на небеса И вспомнил Ваши взоры Ваши синие глаза.
Рифма небеса и глаза не очень хороша, но Пушкину было важно не нарушать единообразия звуковых повторов. Другой пример:
И в наши дни орудием избрал, Когда вдали от суетного света Природы он рисует идеал. “Сонет”
Еще большим энтузиастом звукового повтора был Лермонтов:
Посыпал пеплом я главу, Из городов бежал я нищий, И вот в пустыне я живу, Как птицы, даром божьей пищи. “Пророк”
Или:
Русалка плыла по реке голубой Озаряема полной луной. “Русалка”
У Пушкина и Лермонтова просто нет стихов без доступной любому слуху грубой звуковой фактуры. Великим мастером звуковом магии был Блок. Несравненным звуковым организатором своих стихов была Цветаева. Так делают и современные поэты. Конечно, это — магия неандертальца, ибо никакой апелляции к разуму в этих “Ижорах” нет. Полемическое замечание Пушкина о том, что поэзия “должна быть глуповата” (письмо П.А.Вяземскому, май 1826 г.), подчеркивает ту главную мысль, важную мысль, что звуковой каркас — главное для поэта. Все это, конечно, самые-самые азы стихотворной грамоты. Так пишут все — от Державина до Игоря Северянина: звуковая магия есть основа русского стихосложения. За “созданием” первой строфы следует вторая.
Вторая — в какой-то части есть реализация приобретенного во время работы над первой и в то же время она все еще — в общем запасе, запасе слов, сравнений, аргументов, которые собраны в мозгу поэта до стихотворения. Этот запас толкает поэта па следующие строфы — их может быть больше или меньше — в зависимости от ситуации. Возникает несколько вариантов этих вторых, третьих строф, которые выступают неудержимо одна за другой, тут же — едва успеваешь записать на бумагу, остановить, фиксировать этот поток. Запись приносит величайшее облегчение. Записываются и лишние строфы — просто все, что вышло на перо в этом одноразовом потоке. Только через день (а то и через год), — если возникает такое же настроение, — возвращаешься к стихотворению. Запас уже исчерпан, но не настолько, чтобы суть стихотворения (тема или ощущение — экзерсис, подобно разыгрываемой гамме) перестала интересовать поэта. Напротив, наступает вторая стадия — где мысль, разум, воля играют более важную роль, чем при первой записи. Тут-то отвергается (не холодным, а жарким отвержением) кое-что. Кое-что подтверждается, кое-что дополняется. Устанавливается композиция — окончательный порядок строф. Тут-то и определяется холодным взглядом — не подражает ли написанное кому-либо, и чем-либо, хоть в тоне, в слове, в словаре, и интонации, в художественной системе. Не напоминают ли мне собственные, только что написанные стихи чье-то чужое стихотворение или отдельный образ, символ, метафору. Все подражательное изгоняется самым жестоким образом, ибо эта вторая правка - последняя. Если это перепев собственных вещей - оставляется в тетради. Теоретически любое стихотворение можно улучшить, добавить кое-что и, вероятно, улучшать можно бесконечно. Я так не делаю. Переработка второй записи представляет для меня невероятное, чисто физическое мучение; дальнейшее улучшение и добавление стоят таких нервов, что лучше от него отказаться. Трудность здесь заключается в том, что очень трудно вернуться в уникальное состояние определенного напряжения нервов, таланта, ума, которое ранее вытолкнуло на бумагу стихи. Все мои стихи в сборниках, хотя я отнюдь не враг всяких переделок, напечатаны в том виде, в каком я их написал (единственное стихотворение, которого коснулась, — хотя и деликатнейшая, — рука редактора, я никогда не вспоминаю). Даже читать старые стихи не то, что переделывать их, — очень трудно.
Для меня было в высшей степени удивительным и слышать и видеть, как Маяковский в 1928 году по просьбе слушателей читал свой “Левый марш”. У меня бы губы не повернулись прочесть что-то старое. Очевидно, сами губы Маяковского как бы непроизвольно сложились в какие-то важные ему складки и поэтому повторение доставляло ему чисто физическое удовольствие. Но о своих стихах поэт может судить только сам. Он — единственный судья своего собственного дела. Кроме собственного приговора, имеют значение суждения лишь высоко квалифицированных знатоков предмета, далеких от всяких “болельщицких” симпатий. Они не обязательно должны быть поэтами. Но они должны знать, какую цену платит поэт за свои стихи. Поэмы и эпические вещи пишутся, наверное, иначе, не могу сказать. Но процесс работы над лирическим стихотворением от восьми до двадцати строк именно таков, как рассказано. Таков был он у Пушкина, Лермонтова, Фета, Баратынского, Тютчева, Блока, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Маяковского, Северянина, Хлебникова и Есенина.
В мозгу поэта — да и не только в мозгу, но и в сердце и всей нервной ткани — копится некий звуковой гул. Стихотворение возникает как звуковой каркас — идут поиски ритма, тона, размера, который должен дать выход накопленному в мозгу. Там же нарастает ощущение какой-то принудительности, обязательности, необходимости высказывания. Человеческий мозг хранит в себе — кроме сформулированных мыслей — еще и запас ощущений, чувств, эмоций, желаний, подтекстов, обломков, ищущих выхода вне мысли, стремящихся победить прямую мысль, обойти ее в подтексте, в намеке, наполнив этот разумный текст неразумным чувством. В таком виде текст вырывается на бумагу под контролем мысли. Конечно, запись — это процесс вторичный, когда уже мысль вмешалась, ставит преграды и дает форму. Поиски формы звукового потока составляют значительную трудность поэтического процесса, большую его часть и неотъемлемое свойство. Поэтому-то поэзия — непереводима. (Даже художественная проза — непереводима. Гоголь, Зощенко — каковы они в переводе?..) Но сейчас речь идет не об этом. Если считать, что поиски звукового каркаса стихотворения уже есть вид СОДЕРЖАНИЯ, то до осознанности, проясненности в сознании этому содержанию еще очень далеко. Разумом пользуется баснописец, но не поэт-лирик.
Стихи — это особый мир, где эмоции, мысль и словесное выражение чувства возникают одновременно и движутся к бумаге, перегоняя друг друга, пока не закончат каким-то компромиссом, потому что некогда ждать, пора ставить точку. Для русского стиха таким коренным, главным путем движения рождающегося стихотворения, его улучшения является сочетание согласных в стихотворной строке. Совершенство — и совершенствование — русского стиха определяется сочетанием согласных. Истинная поэзия — самоочевидна (стихи — не стихи), но это отнюдь не значит, что она —чудо и потому не может быть объяснена. Стихи не пишутся по модели “СмыслТекст”: терялось бы существо искусства — процесс искания — с помощью звукового каркаса добраться до философии Гете и обратно — из философии Гете почерпнуть звуковой каркас очередной частушки. Начиная первую строку, строфу, поэт никогда не знает, чем он кончит стихотворение. Но звуковой каркас будущего стихотворения, его очень приблизительная идея — при полной силе эмоционального напора — существует. Стихи всегда — эмоциональная разрядка и в этом их важнейшая особенность и повелительность. |
| Автор: veronasunrise | Трезвучия согласных — основа гармонии стиха
Стихотворная речь является на бумагу, всегда одетая в военную форму особого образца — в “опорных трезвучиях”, как их называет Ю.А.Шрейдер [Я имею в виду текст, который с разрешения его автора привожу в Приложении. Музыкальный — по происхождению — термин приходится употреблять из-за недостаточной разработанности теории стихосложения, учения о поэтической интонации. Вообще же я избегаю пользоваться музыкальной терминологией — ибо это одна из причин смешения понятий. Музыка — абсолютно иное искусство, чем стихи, и пользование ее терминологией только затруднит дело. Не случайно, Блок, как и Маяковский, не имел музыкального слуха. В его термине “музыка революция” при всей его конкретной ощутимости и философской значительности меньше всего собственно музыки. Маяковский в детские лефовские времена вполне серьезно уверял, что музыка — буржуазное искусство. Пастернак, в отличие от Блока и Маяковского, был музыкантом и в “Охранной грамоте” —лучшей своей прозе — оставил нам волнующую историю выбора одного из двух искусств. Но сама необходимость выбора говорила, что стихи и музыка — чуждые друг другу миры. Гениальные стихи: Я клавишей стаю кормил с руки — все же не музыка, а стихи. Для того чтобы написать Казалось, скорей умертвят, чем умрут, рулады в крикливом, искривленном горле, не надо учиться контрапункту. Стихи очень далеки от музыки. Даже в ряду смежных искусств — танец, живопись, ораторское искусство ближе стихам, чем музыка], в звуковых повторах особого рода, в особенных сочетаниях согласных: без них стихотворение считается предприятием штатским. В русском языке нет ничего (никаких явлений, мыслей, чувств, наблюдений, событий, жизненных фактов и прочая и прочая), чего нельзя было бы выразить стихами.
Стихи — всеобщий язык, но только не искусственное и условное создание, как эсперанто, а выросший в родном языке и обладающий всеми его особенностями, правилами и болезнями. Повторяемость определенного рода согласных букв и дает ощущение стихотворения. Однако роль этих звуковых повторов (опорных трезвучий) не ограничивается звуковым совершенством данной строфы. Поиск этих опорных трезвучий и составляет сам процесс художественного творчества применительно к русским стихам, подлежащий разумному учету и разумному отчету. Для поэта — это граница ненужного, лишнего. Этим экономится время работы, ибо все, что вне этих трезвучий, просто отбрасывается, не попадает на перо. А то, что попадает, подвергается контролю, правке. Лучший вариант — это тот, который благоволит слуху, уху (опять же не в музыкальном значении слуха и уха). В торможении звукового потока мысль еще не играет главной роли. Главная роль отдается мысли при правке уже остановленного, зафиксированного звукового потока, но и то — большой вопрос, что тут главнее. Разум должен оставаться в разумных пределах — таков главный вывод из этого отрезка бегущей ленты стихотворения. Все человеческие желания, мысли, чувства, надежды мы можем передать при помощи речи —тех самых тридцати трех букв русского алфавита, пересчитывание которых никогда никому не мешало. Этот алфавит передает и поэтическую речь, имеющую свои законы, в отличие, скажем, от художественной прозы, хотя, казалось бы, разница невелика. Русский алфавит состоит из тридцати трех букв — двадцати согласных и скольких-то гласных, используемых в канонических размерах русского стихосложения (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест). Для русского стихосложения важны только согласные буквы, их сочетания и группировки, так называемые “фонетические классы”. Возможность взаимной замены звуков человеческой речи должна быть ясна поэту, быть “на языке”, “на кончике пера”. Приведем список фонетических классов русских согласных и их условные обозначения, которые понадобятся при разборе дальнейших примеров.
класс обозначение класса Д — Дь — Т — Ть Т В — Вь — Ф — Фь Ф М — Мь — Н — Нь Н Л — Ль — Р — Рь Р 3 — Зь — С — Сь С 3 — Ж 3 Ш — Щ — Ч Ч С — Ш Ш Х — Г — К К Б — Бь — П — Пь П Ж — Ш Ж Ц Ц
Один звук может, вообще говоря, входить в разные классы системы, но в конкретном стихотворении (строфе) он — представитель ровно одного класса. По частоте появления этих классов можно выделить опорные трезвучия стиха (трезвучия классов и их модуляции). Главные звуки также имеют свою парность, особенно в московском произношении: “А — О — О — У” “И — Ы” “И—Е” “Е — Э” “Ё — О”. Все это должен знать не только каждый школьник, но всякий берущийся за поэтическое перо должен знать лучше таблицы умножения, ибо, не зная этой особенности звукового построения речи, нельзя понять творчество Пушкина, Лермонтова, Блока, Пастернака. Конечно, истинные звуковые повторы “неназойливы”. Неназойливы, но и необходимы, единственны, совершенны. Такова звуковая ткань “Медного всадника”, как и “Полтавы”, “Сонета”. “Неназойливость” очень велика у Блока. Не будем разбирать совершенство художественной ткани “Медного всадника”:
Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий стройный вид, Невы державное теченье, Береговой ее гранит и т. д.
Звуковые повторы “Медного всадника” — высшее мастерство зрелого Пушкина, но уже в “Сонете” были подчеркнуты те же самые законы. (“Сонет” написан в 1830 г., а “Медный всадник” остался в бумагах поэта). Первая строка — Суровый Дант не презирал сонета — находка настолько исчерпывающая по своим согласным, что исключает всякую возможность импровизации:
Суровый Дант не презирал сонета; С—Р—Ф—Т—Н—Т—Н—П—Р—С—Р—С—Н—Т В нем жар души Петрарка изливал; Ф—Н—М—Ж—Р—Т—Ж—П—Т—Р—Р—К—С—Р—Ф—Р Игру его любил творец “Макбета”; К—Р—Ф—Р—П—Р—Т—Ф—Р—Ц—Н—К— П—Т Им скорбну мысль Камоэнс облекал. Н—С—К—Р—П—Н—М—С—Р—К—М—Н—С—П—Р—К—Р И в наши дни пленяет он поэта: Ф—Н—Ш—Д—Н—П—Л—Н—Т—Н—П—Т Вордсворт его орудием избрал, Ф—Р—Т—С—Ф—Р—Т—Ф—Р—Т—Н—С—П—Р—Р Когда вдали от суетного света К—К—Т—Ф—Т—Р—Т—Н—Фо—С—Ф—Т Природы он рисует идеал П—Р—Т—Н—РС—Т—Т—Л Под сенью гор Тавриды отдаленной Певец Литвы в размер его стесненный Свои мечты мгновенно заключал. У нас его еще не знали девы, Как для него уж Дельвиг забывал Гекзаметра священные напевы.
Переход к “смежным тональностям” очень привлекателен для поэта в его звуковом поиске, если даже тут и нет особых удач, то всегда — это новая земля для закрепления в несвоем городе своих собственных заявочных столбов. Вот на ту же тему примеры из Лермонтова. Лермонтов стремится укрепить необходимый ему звуковой повтор в первой же строке стихотворения, подчеркнуть важную звуковую характеристику с самого начала (так же часто поступал и Пастернак, вспомним Послепогромной областью почтовый поезд в Ромны; и т.д. и Он спал, постлав постель на сплетне и многое другое). Вот “Русалка”:
Русалка плыла по реке голубой, Р—С—Р—К—П—Р—К—К—К—Р—П Озаряема полной луной... С—С—Р—Н—П—Р—Н—Л—Н
Вот конец стихотворения “Ангел”, начатого четким звуковым повтором: По небу полуночи ангел летел:
И долго на свете томилась она, Желанием чудным полна, И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли.
Это — Лермонтов-юноша. А это Лермонтов — взрослый:
Посыпал пеплом я главу (ПСПЛППЛНКЛФ) Из городов бежал я нищий, И вот в пустыне я живу, Как птицы — даром божьей пищи...
Лермонтов мог написать: Посыпал грязью я главу. Или: Посыпал прахом я главу, что сохpаняло и размер, и смысл, и тон. Терялась только выразительнейшая тонкость звукового повтора. Я не говорю уже о соответствии пустыни, птицы и пищи. “Пророк” — стихотворение последнего года жизни Лермонтова. Лермонтовский пророк говорил с богом на языке звуковых повторов. А вот стихотворение “Из альбома С.Н.Карамзиной” (здесь удобнее повторы описывать не классами букв, а непосредственно самими буквами):
Любил и я в былые годы Л—Б—Л—В—Б—Л—Г—Д В невинности души моей В—Н—В—Н—Н—С—Т/д/Д—Ш—М И бури шумные природы, Б—Р—Ш—М—Н—П—Р—Д И бури тайные страстей. Б—Р—Т—Н—С—Т—Р—С—Т. Но красоты их безобразной Н—К—Р—С—Т—Х/К/Б—3—Б—Р—3—Н Я скоро таинство постиг, С—К—Р—Т—Н—С—Т—В—П—С—Т—Г/К/ И мне наскучил их несвязный М—Н—Н—С—К—Ч—Л—Н—С—В—З—Н И оглушающий язык. Г—Л—Ш—Щ—З—К/Г/ Люблю я больше год от году, Желаньям мирным дав простор, Поутру ясную погоду, Под вечер тихий разговор.
И наконец последняя, лирико-сатирическая, типично альбомная строфа:
Люблю я парадоксы ваши И ха-ха-ха, и хи-хи-хи [Наличие повторов в этой междометной строке не требует доказательств] Смирновой штучку, фарсу Саши С—М—Р—Н—В—Ш—Т—Ч/Ш/К—Ф—Р—С—С—Ш И Ишки Мятлева стихи ... Ш—К—М—Т—Л—В—С—Т—Х
Все это замечательное стихотворение добыто с помощью звуковых повторов. Звуковой каркас — это и есть та самая художественная ткань, на которой вышиваются самые сложные философские узоры. Самостоятельная область познания мира... Но вернемся к “Русалке”. Вся она насквозь экспериментальна и подчеркнуто антимузыкальна. Слово серебристая, названное в четвертой строке, скрыто в предыдущей (И старалась она доплеснуть до луны...) и полностью этой строкой предсказано. Кроме того, имеете с многократными “Л—Н” “Русалка” содержит еще и упражнения на ГЛАСНЫЕ. Так, первая и вторая строки первой строфы содержат три “о”, а вторая — целых четыре “о”: “Озаряема полной луной...” Позднее этот эксперимент повторил Пастернак: “О, вольноотпущенница, если вспомнится...” Но эксперимент с гласными себя не оправдал, равно как и державинские стихи без буквы “р” и многочисленные аналогичные опыты других авторов. Природа русского стиха — в управлении согласными. От того, что ты два раза в строке применил букву “о”, ничего в стихе не меняется, применение же повтора согласных “ЛН” или “СТ” делает стихи стихом. Вспомним еще раз “Русалку”;
Русалка плыла по реке голубой, Озаряема полной луной; И старалась она доплеснуть до луны Серебристую пену волны. И шумя и крутясь колебала река Отраженные в ней облака; И пела русалка — и звук ее слов Долетал до крутых берегов.
Плыла, колебала, пела, долетали — это и есть стихи! Количество примеров легко умножить:
Отворите мне темницу, Дай же мне сиянье дня, Черноглазую девицу, Черногривого коня!
Я матерь божия, ныне с молитвою...
Люблю тебя, булатный мой кинжал...
И все, все остальное! Все хрестоматийное лермонтовское имеет надежную фонетическую основу. Поэтому-то Пастернак и посвятил Лермонтову “Сестру мою жизнь”, что именно Лермонтов открыл, дал ему ключ к этим бесконечно богатым звуковым кладовым русского стихосложения. Вот Пастернак, открытый наугад, как в новогоднем гаданьи, глава “Морской мятеж” из “Девятьсот пятого года”:
Ты на куче сетей. Ты курлычешь. Как ключ, балагуря. И как прядь за ушком, Чуть щекочет струя за кормой. Ты в гостях у детей. Но какою неслыханной бурей Отзываешься ты, Когда даль тебя кличет домой! Допотопный простор Свирепеет от пены и сипнет. Расторопный прибой Сатанеет От прорвы работ. Все расходится врозь И по-своему воет и гибнет И, свинея от тины, По сваям по-своему бьет.
Не продолжаю. Если бы Пастернак написал только эти две замечательных строфы, — он навсегда остался бы в нашей памяти как учитель самого важного в русском стихосложении —науки звуковых повторов. И совсем уж неважно, что эти стихи разонравились поэту в старости. Что сказать о Цветаевой? Цветаева вся — звуковой повтор. Все поэтические истины добыты Цветаевой с помощью звукового повтора. Гораздо раньше “Ремесла”, в “Стихах о Москве” пушкинские заветы были уже найдены и продемонстрированы:
Над городом, отвергнутым Петром, Перекатился колокольный гром. Гремучий опрокинулся прибой Над женщиной, отвергнутой тобой.
В дневнике Цветаевой есть запись относительно этого стихотворения: Никто ее не отвергал! — А ведь как — обиженно и заносчиво — и убедительно! — звучит! Звучит убедительно потому, что это — убедительный звуковой повтор: Над городом, отвергнутым Петром Цветаева могла написать (сохраняя полностью смысл)
Над городом, отброшенным Петром, или Над городом, откинутым Петром.
Не только смысл, но и размер бы сохранился, исчез бы только звуковой повтор, и стихотворение звучало бы неубедительно. У Есенина таких примеров тьма. Что, как не звуковой повтор:
Вижу сад в голубых накрапах, Тихо август прилег ко плетню. Держат липы в зеленых лапах Птичий гомон и щебетню. …Видно, видел он дальние страны, Сон другой и цветущей поры, Золотые пески Афганистана и стеклянную хмарь Бухары. (“Эта улица мне знакома”)
Насколько забыты нашей поэтической практикой все эти важные проблемы, показывают два недавних примера. Пример первый. В московском сборнике “День поэзии, 1974 г.” на странице 27 К.Симонов подробнейшим образом излагает творческую историю стихотворения “Жди меня”. Главным препятствием для публикации были Желтые дожди в строках
Жди, пока наводят грусть Желтые дожди.
Поэт вспоминает, что ему были трудно логически объяснить редактору, почему дожди желтые. На помощь пришел Е.Ярославский — “художник-любитель”, который заверил, что дожди бывают всех цветов радуги и желтые тоже могут быть — от глины. После этого стихотворение пошло в набор. Между тем, во всем этом рассказе К.Симонов ни разу не обмолвился о том, что желтые дожди — это звуковой повтор: Ж—Л—Т Д—Ж—Д/—Т/, самым естественным образом входящий в стихотворную строку, образующий ее и связывающий со всем стихотворением. Второй пример. В “Литературной газете” к 500-летию со дня рождения Микельанджело опубликованы новые переводы А.Вознесенского из Микельанджело. Работа ненужная, ибо Тютчева не улучшишь. В классическом роде работа А.Вознесенского уступает известным образцам. Но в данном случае я имею в виду другое. Говоря о своем подходе к проблемам перевода, А.Вознесенский сослался на опыт Пастернака и не только сослался, а процитировал целое стихотворение Пастернака, где дается формула, под которой А.Вознесенский подписывается обеими руками, как под выражением сути своих переводческих воззрений:
Поэзия — не поступайся ширью, Храни живую точность — точность тайн, Не занимайся точками в пунктире И зерен в мере хлеба не считай.
Искусное перо Пастернака прямо-таки провоцирует сосчитать эти зерна подлинной поэзии, которые искал когда-то крыловский петух, и наглядно вскрыть, что же скрывается за точностью тайн. Точность тайн — это звуковой повтор.
Поэзия, не поступайся ширью, П—3—Н—П—С/З/Т—П—С—Ш—Р Храни живую точность — точность тайн. Х—Р—Н—Ж—В—Т—Ч—Н—С—Т—Ч—Н—С—Т—Т—Н Не занимайся точками в пунктире Н—3—Н—М—С—Т—Ч—К—М—В—П—Н—К—Т—Р И зерен в мере хлеба не считай 3—Р—Н—В—М—Р—Х—Л—Б—Н—С—Ч—Т
Это не более, чем шутка искусного пера поэта, который уже не мог обойтись без привычных и послушных перу повторов. Стихотворная гармония не имеет никакого отношения к звукописи, к звукоподражанию и примером Пушкина обеднять эту проблему не надо. Вот Лермонтов:
В глубокой теснине Дарьяла. Где роется Терек во мгле, Старинная башня стояли, Чернея на черной скале. “Тамара”
Эти два лезущих в уши звуковых повтора приведены поэтом не затем, чтобы передать рычанье Терека, а для того, чтобы получить определенную звуковую опору. В следующей строфе будут новые, другие повторы. Это — значительно более важный закон русского стихосложения, чем звукопись. Когда Блок пишет: Зашуршали тревожно шелка — он делает это не затем, чтобы до наших ушей донести шелест шелкового платья, а затем, чтобы укрепить трезвучия, на которых держится стихотворение. И разве Посыпал пеплом я главу “Пророка” — звукоподражание и мы должны ощутить шелест пепла, который пророк сыплет себе на голову? А как поступить с таким повтором, в котором нет ни шелеста дамского платья, ни вьюги, ни шипенья пенистых бокалов, например, со второй строфой разобранного выше лермонтовского “Из альбома С.Н.Карамзиной”? Этот закон опорных трезвучий и есть главный закон русского стихосложения, который часто называют “музыкальностью”, что вовсе явно неправильно, ибо стихи — это не музыка. Стихи —это стихи. Закон звуковых повторов в словарях толкают в отдел “эвфонии”, т. е. “благозвучия”, хотя никакого благозвучия нет ни в результате, ни в самом поиске. Однако законы этих поисков есть и отнюдь не являются “чудом”. Творческий процесс начинается с рождения в неком заданном ритме — “размере” (ямб, хорей), где слова уже вооружены звуковыми повторами, с помощью которых и пишется стихотворение. Пользование этими звуковыми повторами, этими “трезвучиями” не только необычайно расширяет видимый и невидимый мир поэта, но и ограничивает его, ставя какие-то преграды, рамки русской грамматике, делая необходимым отбор на первой же части работы. Это делается для экономии времени. Звуковые (и смысловые варианты) должны быть быстро пойманы и переведены на бумагу. Иначе они исчезнут бесследно. Пишется определенный текст. Стихотворение — это смысловое торможение звукового потока, отливка в смысловые формы звуковой расплавленной лавы. Эвфония, благозвучие в стихах — это скорее грань благозвучия, тот необходимый грамматический уровень, при котором стихи остаются стихами. Это как бы грань улицы и благовоспитанной человеческой речи — в стихотворной строке. Испытания и поиск идут именно на грани звукового “шума времени” — по Мандельштаму —или “музыки революции” — по Блоку. Стихи — это особый мир, где чувство и мысль, форма и содержание рождаются одновременно под напором чего-то третьего и вовсе не названного ни в словаре политики, ни в катехизисе нравственности. Все начала вместе рождаются и вместе растут, обгоняя друг друга, уступая друг другу дорогу и создают необыкновенно важную для поэта художественную ткань. Эта художественная ткань — не чудо. В ней есть свои законы, которые строго действуют в мире тридцати трех букв русского алфавита, способных передать не только частушку Арины Родионовны, но и трагедию Мазепы и драму Петра. Возможности, указанные Пушкиным в “Сонете”, — безграничны. Следует также обратить внимание, что сонет — это стихи о стихах. Напрасное уклонение от таких “формальных” (даже формальных в двойных кавычках, сугубых кавычках) произведений только обедняет нашу поэзию. Это и есть стихи о труде, о поэтическом труде. Стихи о стихах — это и есть стихи о труде. Не только потому, что дело поэта — это его стихи — по Пушкину [Высказывание А.С.Пушкина, которое имеет в виду автор (“…Слова поэта суть уже его дела”) известно нам только в передаче Гоголя. — См. Н.В.Гоголь. О том, что такое слово. — Собр. соч. Т. 6. М., “Худ. лит.”, 1967, с. 216. — Прим. ред.] и Полежаеву. Именно стихи о стихах дали бы возможность сравнить ряд поэтических концепций, показали бы “кто есть кто”. Но, конечно, стихи о стихах не столь важный вопрос, сколь вопрос о стихотворной гармонии. Стихотворная гармония зависит от сочетания согласных в стихотворной строке. Этот звуковой поток и рождает русские стихи. |
| Автор: veronasunrise | Ю. А. Шрейдер
Соображения о стиховой гармонии
Впервые мысль о том, что звуковая гармония стиха определяется согласными, я услышал от В.Т.Шаламова. Насколько я могу судить спустя полгода после этого разговора, он считает, что гармония согласных звуков и есть основа стиха. Сейчас — это уже внутренне освоенная мной мысль, и дальше я буду говорить о том, что думаю по этому поводу я сам. Стихи, конечно, не создаются по модели: сначала мысль, а затем ее языковое стиховое оформление (смысл => текст). Стихи возникают как сплав смысловой, лексической и звуковой гармонии — все компоненты вместе. Поэтому изучать надобно не способы оформления приемов, а законы гармонии. Как в музыке контрапункт.
Я утверждаю (пока бездоказательно) следующее: 1) Основой стиховой гармонии являются опорные трезвучия согласных. В них одновременно ключ и к звуковой и к смысловой доминанте стиха. Эти трезвучия определяют тональность стиха (звукосмысловую) аналогично основным музыкальным трезвучиям. Возможно, что в некоторых случаях возникают опорные четырехзвучия. 2) Опорные трезвучия выделяются в стихотворении по аномально высокой частоте появлений. Интуитивно я умею эти трезвучия выделять, но не могу описать алгоритм. Бывает, что трезвучие составляется не из звуков, но из пучков родственных фонем. Скажем, одним из элементов трезвучия может быть пара “глухой/звонкий”. 3) Тот факт, что данная тройка согласных является гармоническим трезвучием в русском языке, коррелирован с наличием достаточно большого количества русских слов с данным составом согласных в различных порядках с различными огласовками. 4) Опорное трезвучие стиха обычно легко обнаруживается в двух первых строчках, а затем оно модулируется в “смежные” тональности. Что значит “близость” тональностей (трезвучий) и существует ли такая категория? На плохих и неумелых стихах отчетливо видно именно отсутствие как определенных трезвучий, так и неоправданные диссонансы вроде модуляции из “с” в “ц” при сохранении остальных двух элементов трезвучия. Переход “с”—“ц”, видимо, очень плох для русского стиха. 5) Опорное трезвучие “выводит на ключевые слова”, а иногда дает эти слова в криптограмме. Иногда само трезвучие дается в явной лексической подаче, ср. Он опыт из лепета лепит. 6) Но обычно трезвучие возникает “неназойливо”. Мы о нем так же не думаем, читая стихи, как слушатель музыки не разгадывает тональность вещи. Рифма и ритм “подчеркнуты”, даны “вовне”, но глубинная гармония не в них. Гениальность строки Пастернака Кто-то вроде друга, вроде рока замечается из-за приглушенности гармонии Д/Т—Р—Г/К. 7) Несколько сложней обстоит дело в следующем отрывке из стихотворения В.Шаламова “Аввакум в Пустозерске” (из сб. “Дорога и судьба”, М., 1967, стр. 81):
Наш спор — не церковный О возрасте книг, Наш спор — не духовный О пользе вериг. Наш спор — о свободе, О праве дышать, О воле господней Вязать и решать.
Здесь основное трезвучие первого четверостишия СПР (“спор”) естественно и постепенно (“вериги” — как предполагаемый предмет спора фонетически вводят подлинный предмет этого спора — “право”) переходит в ПРВ (“право”), что и составляет смысловой и звуковой фокус стихотворения “о попранном праве”. Но в этой модуляции четко различимо присутствие звука Д/Т. Присоединив его к основному трезвучию, мы обнаружим неявно содержащееся в звуковом массиве стиха слово “правда”, которое и есть ключ к смыслу всего стихотворения. Вот примерно все, что я могу сформулировать. В настоящее время я пытаюсь проанализировать с изложенных позиций ряд стихотворений русских поэтов. |
| Автор: veronasunrise | С. И. Гиндин
Послесловие к статье В.Т.Шаламова
В пору необычайно острого общественного внимания к успехам кибернетики и увлечения ими, А.Н.Колмогоров счел необходимым напомнить ученым-кибернетикам, которые “часто забывают о том, что анализ высших форм человеческой деятельности был начат давно и продвинулся довольно далеко”, что хотя этот анализ “и ведется в других, не кибернетических терминах..., его необходимо изучать и использовать” {1, с. 24}. Думается, что это напоминание еще более актуально по отношению к семиотике — науке, претендующей на изучение любых знаковых систем и потому обязанной тщательно учесть и сопоставить все данные, накопленные в исследовании отдельных систем. В частности, особое внимание должно быть уделено исследованиям “пользователей” таких систем: ученых — о пауке, художников — об искусстве, поэтов — о поэзии. Такие высказывания часто имеют двойную ценность — и как исследования, и как непосредственные свидетельства информантов — “носителей языка”.
Публикуемая статья В.Т.Шаламова также является попыткой объединить собственный стиховой опыт с раздумьями об общих законах стиха и поэтического творчества. Жанр этот прославлен в отечественной литературе статьей В.В.Маяковского {2} и курсом И.Л.Сельвинского {З}, в первом издании, называвшимся “Стихия русского стиха”. Правда, от этих знаменитых образцов статью В.Т.Шаламова отличает большая эскизность и фрагментарность, а ее жанровая принадлежность обусловила такие особенности ее стиля и структуры, как эмоциональность и угловатость изложения, отсутствие научного аппарата, субъективная заостренность оценок. Тем не менее статья эта (и особенно § 1, свободный от попыток формализации и теснее связанный с творческим опытом автора) должна привлечь внимание не только специалистов по поэтике.
Звуковые повторы, которым посвящена работа В.Т.Шаламова, издавна привлекали внимание исследователей. Оставаясь только в пределах отечественной традиции, следует назвать такие классические исследования, как {4}, где была разработана классификация повторов по их месту в стиховых единицах, {5, с. 492—495}, давшая типологию неэлементарных повторов по соотношению состава и расположения звуков в каждом из членов повтора, критический обзор {6} и {7} [Более подробные сведения можно найти в библиографиях {8-9}]. Что нового вносит в изучение проблемы В. Т. Шаламов и в чем видится нам основное значение его статьи? В первую очередь это, как нам кажется, подчеркивание динамической природы звукового повтора, его активной формирующей роли в процессе сотворения стихотворения (и поэтом, и читателем). Такой подход помогает преодолеть как традиционную статичность представления совокупности повторов, выделяемых в пределах некоторого стихотворения, так и наблюдаемую в таком представлении изолированность и оторванность различных повторов друг от друга, их разобщенность. В.Т.Шаламов старается показать взаимосвязанность последовательно возникающих повторов, их перетекание друг в друга [Такой подход потребовал от В.Т.Шаламова привлечения понятия “класса звуков”. Возможно, что его последовательное проведение потребует использования дифференциальных признаков и приведет в конце концов к анализу не отдельных, наиболее ярких узлов звуковой ткани стихотворения, каковыми все же являются повторы (хотя бы и увязанные друг с другом), а всей ткани в целом. См. в этой связи {10}, где исследуется степень тональности строк в целом]. Такой подход родствен попыткам представления процессуальной природы стихового ритма (ср. {11}) и хорошо вписывается в свойственную современной лингвистике тенденцию к анализу языка как некоторой деятельности, в гумбольдтовскнх терминах — язык не как ergon, а как energeia.
Во-вторых, важное значение и для поэтики, и для психологии творчества, и для общей семиотики имеет, как нам кажется, настойчиво проводимое В.Т.Шаламовым утверждение о том, что в процессе возникновения стихотворения звук, звуковые повторы предшествуют какой бы то ни было словесно-тематической формулировке и вообще словам: “Стихотворение возникает как звуковой каркас...” Этот первоначальный императивный звуковой импульс отнюдь не противопоставляется автором содержательной стороне стихотворного текста, напротив — для него “поиск звукового каркаса стихотворения уже есть вид содержания”, а звуковые повторы, и в том числе рифма, — инструмент поиска и отбора слов и конструкций, т.е. средство построения смысла. Значение подобной трактовки для аналитической поэтики состоит в том, что появляется возможность говорить о звукосмысловых связях в применении не только к более очевидным случаям звукоподражания и звукообраза [Этот тип звуковой организации, состоящий в распределении по всему стихотворению и частому повторению в нем звуков, входящих в состав некоторого “ключевого слова” (последнее может и не быть названо в стихотворении явно), в русской науке исследовался В.И.Ивановым (см., например, {12}). После посмертной публикации в 60-x гг. работ Ф. де Соссюра ({13} и др.) изучение звукообразов (в его терминологии — “анаграмм”) стало господствующим направлением в исследовании фонетики стиха ({13} и др.; о попытке статистической проверки этой теории см. {14})], но и к произвольным звуковым повторам. В то же время яснее становится и механизм возникновения звукообраза: коль скоро звуковой повтор есть средство отбора слов, то когда некоторое слово уже найдено, вероятность отбора слов, в которых есть звуки, входящие в это отобранное слово, должна возрастать.
Значение указанного подхода для психологии творчества состоит в том, что В.Т.Шаламов фактически дает нам третью модель начальной стадии творческого процесса поэта. Согласно наиболее известной модели, выпукло и подробно описанной В.В.Маяковским {2, с. 30—31}, стихотворение начинается с бессловесного “ритма—гула”, из которого лишь затем “постепенно... начинаешь вытаскивать отдельные слова”. С Маяковским полемизировал А.Т.Твардовский, утверждавший, что даже размер стиха “должен рождаться не из некоего бессловесного гула..., а из слов, из их осмысленных, присущих живой речи сочетаний” ({15, с. 371}; сходное с Твардовским описание зарождения стихотворения из конкретных слов давал Н.Гильен {16, с. 7}). В.Т.Шаламов рядом с этими двумя моделями ставит третью: рождение стихотворения не из ритма и не из слов, а из звука. Новая модель описана пока куда менее детально, чем ранее известные, но заявка на ее “регистрацию” и дальнейшее изучение сделана.
Лингвистическое значение свидетельств В.Т.Шаламова состоит в том, что они заставляют задуматься о статуте так называемых моделей “СмыслыТекст” и особенно их подкласса —моделей “Тема => Текст” {17}. По-видимому, во всяком случае — применительно к лирическим стихотворным текстам, эти системы явно могут моделировать структуру результирующего текста и быть средством проверки правильности его толкования исследователем, но не моделью реального процесса сотворения текста. Конечно, теоретически можно было бы считать темой не только некоторую словесную формулировку, но, например, и некую последовательность звуков, однако это, по-видимому, будет уже серьезной модификацией модели.
Наконец, общесемиотическое значение изложенного подхода к проблеме “Звук и Смысл” состоит в демонстрации того, что наряду с дискутируемой уже несколько десятилетий (а в иных терминах — и целые столетия), проблемой произвольности-мотивированности языкового знака (см. библиографию в {18, с. 422—423}) существует обратная ей проблема: не только означающее может быть мотивировано означаемым, но и, наоборот, означаемое может в известном смысле быть мотивировано означающим. Особенно существенной эта проблема становится на уровне высказываний, в частности — целого текста. В связи с этим возникает потребность в построении систематической типологии текстов в зависимости от взаимоотношений между планом выражения и планом содержания. Такая типология будет небезынтересна и для информатики.
В увлечении доказываемыми тезисами В.Н.Шаламов не всегда сохраняет должную меру и справедливость. Так, не вполне корректно его опровержение звукоподражательной роли повторов. Конечно, повторы, не являющиеся звукоподражаниями, встречаются гораздо чаще и потому в целом важнее для организации стихотворной речи. Тем не менее звукоподражание, звукопись бесспорно существуют и не могут быть изгнаны ни из теории, ни из практики стиха. Поэтому более прав, на наш взгляд, Г.А.Шенгели, в чьем описании “инструментовки” русского стиха {19, с. 262—269} находят себе должное место и звукоподражание, и “лейтмотив” (т.е. звукообраз), и “линейная инструментовка”, интересующая В.Т.Шаламова [К типам, выделенным Г.А.Шенгели, по-видимому, надо добавить символические “значения” звуков, на которые часто указывали поэты и которые сегодня становятся предметом точного психологического и статистического исследования (см. например {20})]. Неправ В.Т.Шаламов и в своем почти полном отрицании роли гласных в звуковой организации русского стиха: роль согласных просто больше бросается в глаза н легче поддается учету, изучение же роли гласных требует более тонкого анализа (см. например {10; 22} и хранящуюся в архиве Г.А.Шенгели рукопись указанного раздела {19}, изданной в сильно сокращенном варианте). Не совсем ясна трактовка В.Т.Шаламовым соотношения буквы и звука в стихотворном тексте [Впрочем, и автор экспериментального исследования {20, с. 97—116} фактически подвергает оценке не звуки, а буквы, введя дополнительно лишь разграничение мягких и твердых согласных. Такое, бесспорно одностороннее, внимание к буквам является естественной реакцией на полувековые занятия только звуками стихотворного текста. В действительности не исключено, что соотношение и сравнительная роль буквы и звука в организации различных текстов разных авторов могут оказаться не одинаковы. Точное выявление этого соотношения науке еще предстоит]. Поспешно распространение предлагаемой “звуковой” модели стиховой интенции на творческий процесс всех классиков русской лирики: как показал первый же опыт структурного исследования авторской правки {21}, характер творческого процесса, скажем, у Пушкина и Пастернака принципиально различен. Все эти замечания не снижают, однако, общей оценки статьи В.Т.Шаламова, которую с интересом и пользой прочитают и лингвисты, и семиотики, и ученые других специальностей.
ЛИТЕРАТУРА 1. Колмогоров А.Н. Автоматы и жизнь. — В кн.: Возможное и невозможное в кибернетике. М., Изд-во AН СССР, 1963, с. 10—29. 2. Маяковский В. В. Как делать стихи? М., “Огонек”, 1927. 54 с. (Б-ка “Огонек”. № 273) 3. Сельвинский И. Л. Моя поэтика. — В его кн.: Я буду говорить о стихах. М., “Сов. .писатель”, 1973, с. 361—500 4. Брик О. М. Звуковые повторы. — В кн.: Поэтика, I—II. Пг., “Опояз”, 1919, с. 58—98 5. Брюсов В. Я. Звукопись Пушкина. — Избр. соч. Т. 2. М., Гослитиздат, 1955, с. 480—498 6. Артюшков А. Звук и стих. Современные исследования фонетики русского стиха. С предисл. А.М.Пешковского. Пг., “Сеятель”, 1923. 72 с. 7. Аксенов И. А. О фонетическом магистрале. — В кн.: Госплан литературы. М.—Л., “Круг”, 1925, с. 122—144. 8. Штокмар М. П. Библиография работ по стихосложению, М., ГИХЛ, 1934, 183 с. 9. Гиндин С. И. Литература по общему и русскому стиховедению, изданная в СССР с 1958 по 1973 гг. — В кн.: Исследования по теории стиха. Л., “Наука”, 1977 (в печати) 10. Jones L.G. Tonality structure in Russian verse. — “Intern. Journal of Siavic Linguistics and Poetics”, 1965, 9. 11. Гиндин С. И. Пути моделирования ритмической организации текста. — Структурно-математические методы моделирования языка. Тезисы докл. и сообщ, Ч. 1. Киев, 1970, с. 33—35. 12. Иванов В. И. К проблеме звукообраза у Пушкина. — “Моск. пушкинист”, 1930, вып. 2, с. 94—105. 13. Wunderli P. Ferdinand de Sossure und die Anagramme. Tubingen, 1972. 14. Баевский В. С., Кошелев А. Д. Поэтика Некрасова: анаграммы. — “Н.А.Некрасов и его время”, Калининград, 1975, вып. 1, с. 32—34. 15. Твардовский А. Т. Как был написан “Василий Теркин”. (Ответ читателям). — Собр. соч. Т. 2. М., “Худ. лит.”, 1966, с. 355—412 16. Гильен Н. К моим советским читателям. — В кн.: Гильен Н. Стихи. М, Гослитиздат, 1957, с. 3—11. 17. Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. К описанию смысла связного текста. [I]—V. М., 1971—1974. (Ин-т рус. языка. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварит. публ. Вып. 22, 33, 39, 49, 61). 18 Степанов Ю. С. Комментарий. — В кн.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., “Прогресс”, 1974, с. 407—445. 19. Шенгели Г. А. Техника стиха. М. Гослитиздат, 1960. 312 с. 20. Журавлев А. П. Фонетическое значение. Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. 160 с. 21. Лотман Ю. М. Стихотворения раннего Пастернака и некоторые вопросы структурного изучения текста. — “Ученые записки Тартуского ун-та”, 1969, вып. 236. Труды по знаковым системам, 4, с. 206—238 22. Abernathy R. A vowel fuge in Blok. — “Intern. Journal of Slavic Linguistics and Poetics”, 1963, 7
|
Количество просмотров у этой темы: 8195.
← Предыдущая тема: Звуки стихотворной речи. В.Е. Холшевников




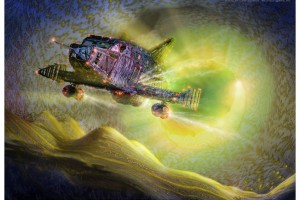





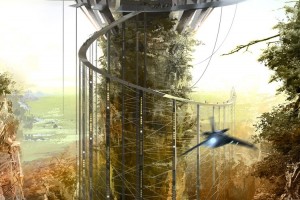




 2015 © ART-Talk.ru - форум про компьютерную графику, CG арт, сообщество цифровых художников (18+)
2015 © ART-Talk.ru - форум про компьютерную графику, CG арт, сообщество цифровых художников (18+)